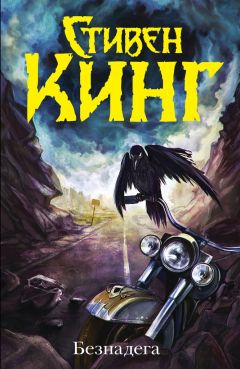Анатолий Приставкин - Городок
— А что мешало раньше-то? — спросил Петруха.
— Мой характер, вот что мне мешало остаться. Всегда и везде только мой характер. От себя не уйдешь, это я давно понял. Но все казалось, где-то можно найти то самое, что ищешь.
— Так что же ты ищешь? — спросил опять Петруха.
Шохов задумался. Молчал он долго. Приятель было решил, что он заснул, но тот вдруг заговорил торопливо:
— Не знаю. Наверное, не смогу объяснить как следует. Может, лучше поймешь, если расскажу, что произошло там...— Он качнул головой.— В отпуске с Тамарой Ивановной был, ничего не знал. Приезжаю веселый, отдохнувший, а мне под нос приказ Третьякова о переводе в рядовые рабочие. Хоть не имел права по закону... Да что уж там выяснять. Шапку в охапку да...
— Уехал? — спросил Петруха недоверчиво.
Шохов кивнул.
Но что-то недостаточное было в этом его кивке. И точно. Оглянувшись, Шохов произнес негромко:
— Понимаешь, он и туда явился.
— Он? — переспросил Петруха.— Кто — он?
— Да Сенька Хлыстов!
Его имя было произнесено совсем тихо. Почти суеверно.
— В Челны? Этот самый... Хлыстов? — воскликнул, оживившись, Петруха. — Ну, а ты? Ты с ним поговорил?
Шохов посмотрел на дверь и ничего не ответил.
— А может, ты ему просто морду намылил!
Шохов при этих громких словах, произнесенных Петрухой весело, только поежился.
— Что ты... Знаешь, это почему-то случилось в тот день... да, именно в тот день, когда вернулся я из отпуска. Прохожу по улице, а мне навстречу кто-то... Здрасте, мол. А я уставился, не разберу, кто же это. Косорылая такая улыбочка, кепочка с козырьком... «Здрасте, Григорий Афанасьич...» Я кивнул и обомлел: Сенька тут! Жди неприятностей! Выхожу на следующий день на работу, так и есть!
— Мистика какая-то,— растерянно улыбнувшись, произнес Петруха.— Надо было все-таки морду ему набить.
Шохов со вздохом отмахнулся:
— Не до морды, самому, считай, намылили... Так и улетел.
Провожала его Тамара Ивановна с аэропорта Бегичево, как всегда молчаливая, но вовсе не грустная.
На прощание поцеловала, произнесла энергично:
— Не пропадай, мой Шохов. Скажи маме, что у нас все хорошо. Вовик пошел в школу, посадили на второй парте у окна. Пусть пишет почаще. А тебе счастливо устроиться. Мы будем о тебе думать.
Уже направляясь в толпе к самолету, Шохов оглянулся и увидел жену, она стояла у оградки с непокрытой головой, и светлые короткие волосы трепетали под ветром. Она не махала рукой, а просто стояла, но даже издалека можно было понять, как напряженно, безотрывно глядит она вслед. Давно Шохов никуда не уезжал, кроме отпуска, лет пять уже с тех пор, как внедрился в Набережных Челнах. Теперь оба понимали, что этот отъезд каким-то образом отсекает прежнюю часть их общей жизни и сулит нечто другое, неведомое, и, уже ясно сейчас, вовсе не легкое. И конечно же все он, он такой неуема, что не может нигде ужиться. Заглядывая в круглый иллюминатор самолета, пытаясь разглядеть жену среди нескольких провожающих и точно зная, что она там стоит и смотрит, смотрит сюда, Шохов мысленно еще раз подтвердил свое слово: что этот переезд будет последний. Хватит мучить себя и других. Пора уняться, и начать думать по-другому, и жить по-другому. Примером в этом должен быть ему Мурашка, его тихий домик, его семья. Шохов сейчас в такой поре, что все умеет в жизни. Он найдет самое удобное для начала, нового начала место и построит свой дом. Это будет лучший дом среди всех, это уж он точно знал. А работа? Работы для строителя будет ровно столько, сколько стоит этот мир. Об этом он не беспокоился. Главное, найти свое место. Не ошибиться, не промахнуться. Но и не проскочить мимо.
Самолет, это был реактивный самолет «Ту-134», вырулил на старт, дал полный газ, и родные Челны остались за крылом. Вроде бы никогда Шохов не жалел о совершенном, но сейчас на какой-то короткий миг сжалось у него сердце и защемило, защипало в горле. Постарел, что ли, что стал таким чувствительным? Он сильно вздохнул и закрыл глаза. Хватит, уехал — и баста. Прощай, Челны, привет столице нашей родины от трудового рабочего класса в лице Григория Афанасьевича Шохова.
Мама Тамары Ивановны проживала на станции Красково по Казанской железной дороге, в кирпичном двухэтажном доме, неподалеку от станции. В ее однокомнатной, сплошь заставленной старой мебелью квартирке Шохов один и вместе с женой останавливался постоянно, когда они приезжали в Москву. Мама Тамары Ивановны была на пенсии, небольшого росточка, еще очень живая, любопытная, говорливая женщина. Звали ее Роза Яковлевна. Она при первом же знакомстве с Шоховым выложила ему всю свою жизнь, и про первого мужа, отца Тамары Ивановны, который был известным конструктором, но рано умер, и про второго мужа, работника Министерства путей сообщения, который тоже умер, и про свою учительскую деятельность здесь в Краснове, где она преподавала, а потом была директором школы. Жил в ней, семидесятилетней, неукротимый комсомольский дух двадцатых и тридцатых годов. Шохов всегда удивлялся жизненной активности своей тещи. Не говоря уж о том, что она по приезде его или дочери начинала суетиться по хозяйству, варить какие-то особенные борщи, печь фруктовые торты, которые ей особенно удавались, готовить пельмени и пирожки с капустой, Роза Яковлевна успевала посещать театры (ее не смущала дорога до Москвы и обратно), ездить в гости к своим институтским подругам, вести какие-то кружки при Доме культуры, участвовать в подготовке к выборам, и прочее и прочее.
Вот и на этот раз, захлестываемая бесконечными мероприятиями, Роза Яковлевна торопливо сообщила зятю, что обед ему готов и его только надо подогреть, а она идет на собрание агитаторов и вернется вечером — и тогда у них будет время посидеть вместе и поговорить.
Вечером она пришла разгоряченная разговорами, спорами, быстро приготовила чай, по какому-то особенному, только ей известному рецепту, подала соевые конфеты, пирожки и наконец присела сама.
— Ну что, Гриша,— спросила она,— снова в путь? Насколько я поняла из Томочкиного письма, у тебя неприятности?
— Не такие уж неприятности, — ответил Шохов, занимаясь чаем.
Чашки, блюдца, да и вообще вся посуда у Розы Яковлевны были старинные, кузнецовского фарфора. Сама хозяйка, когда бывала без гостей, пользовалась обыкновенным бокальчиком, но для приезжих доставала неизменно и только фарфор.
— Поругался, что ли? — выпытывала Роза Яковлевна, успевая в это же время подкладывать ему пирожки, сбегать на кухню и т. д. Она не умела сидеть неподвижно.
— Нет, не ругался,— сказал Шохов.
— Но уволился же?
— Уволился.
— А зачем?
Шохов пожал плечами. Он не хотел пускаться в объяснения, потому что знал, что пытливая Роза Яковлевна начнет выспрашивать всяческие подробности — и тогда придется объяснять ей многое из того, что было и для него самого-то необъяснимо. Да и вообще разговор о происшедшем не был ему приятен.
Наверное, Роза Яковлевна это поняла. Она стала вспоминать свое учительское прошлое, как трудно доставалось им во времена войны, особенно в эвакуации с детишками, и приходилось бороться с трудностями, которые не чета нынешним.
— Вы видите, какая я кнопка, да? А когда у меня сто ртов некормленых, я приходила в районо, и стучала кулачком, и требовала, и мне давали, — говорила Роза Яковлевна.— А вы? Вы же не хотите бороться! Как чуть припекло, так ноги в руки и билет на самолет!
— Дело не в трудностях, — сказал Шохов, но опять же не стал объяснять, в чем же тогда дело.
Трудностей-то он не боялся. Он к ним привык с малолетства. Трудно переживалась потеря друзей, будь то смерть или предательство. Кто бы мог помешать остаться тогда, работал бы на строительстве, заработал бы домик с садиком, а при встречах с Хлыстовым делал бы вид, что ничего не произошло. Господи, да так многие живут, и не только так, муж со своей бывшей женой через перегородку, а враги на одной лестничной площадке, их дети в школу вместе ходят. Но только и это не борьба, о которой говорит и к которой призывает милая, беспокойная Роза Яковлевна. В войну, как говорят люди, отношения были просты: каждый знал, с кем он имеет дело. А сейчас не то что в близких людях, в самом себе невозможно подчас разобраться, понять до конца свой характер. А люди? Странные сейчас стали люди. Каждый в свое гнездо, в свою скорлупку закопался. Это он, Шохов, так поперву жил: боярские столы и полна горница людей. А умные-то, вроде Третьякова, вовсе не так и не на людях, а подальше от их цепких глаз. Недаром тогда Третьяков на тридцатилетии Шохова и сказал, что пора Грише бы поумнеть, а он все до тридцати лет ребенок. На что пьяный Шохов кричал через стол, что, мол, если уж родители его не воспитали, то нечего трогать, пусть учит лучше своих детей...
Жизнь научит. Чем старше, тем злей ее уроки. И вот сейчас Шохов знал твердо, что надо бороться за себя, но вовсе не так, как призывала Роза Яковлевна. Надо — как все (как все умные!) свой дом лепить, свою крепость, и чтобы эту крепость никакие тараны взять не могли.