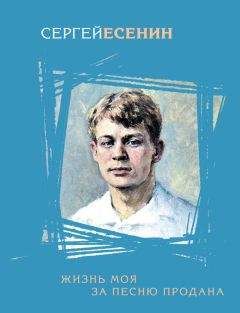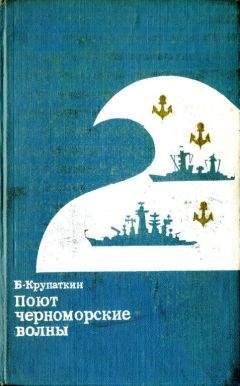Константинэ Гамсахурдиа - Похищение Луны
Как колхидский мед, нежны Дзабулины речи.
Дзабули — сирота.
И как она заботится о малышах, оставшихся на ее попечении после смерти матери!
Она работает на машинке (потому и подрезает коротко ногти). Работает много, не жалея себя… Зачем нужна Арзакану изысканная и праздная княжна? Сам-то он ведь трудится с детства.
Только такая работящая женщина, как Дзабули, разделит с ним все тяготы жизни.
А Дзабули все рассказывает о Тараше Эмхвари.
Оказывается, он втайне пишет стихи.
Дзабули очень любит стихи. Когда приезжали поэты из Тбилиси, она бросила вечернюю работу и ходила их слушать.
Ей нравится этот бесшабашный, помешанный на рифмах народ. Поэты совсем не похожи на обывателей, которым вечно не хватает то керосина, то масла, то мяса.
Какое-то самозабвение чувствуется в их необузданных возгласах!
Тараш Эмхвари не печатает своих стихов и никому их не показывает. Пишет так… для себя. И читает их только Тамар…
У Арзакана наконец лопнуло терпение. Он согнул руку, невольно повторяя жест Тараша, и взглянул на часы, привезенные ему молочным братом из-за границы.
Вежливо простившись, он ушел в лунную ночь.
КОЛХИДСКАЯ НОЧЬ
От тебя несет колхидским ядом,
как из котла, в котором его варят.
Лукиан.Дождь только накрапывал. Мелкими, редкими слезинками орошал непокрытую голову Арзакана.
Слабо расцвеченное звездами небо напоминало узорчатый ситец. Улицы в прозрачном тумане. На западе растянулась полуостровом длинная серая туча; к ней плыла вторая — потемнее, с просветом посередине. И на яшмовом небе эти два мрачных крыла распростерлись, как гигантская летучая мышь, повисшая между лазурью и мглистой землей.
Подальше к Иигуру расплывались серебристые облака, выстилая светлый путь словно для праздничного шествия.
Мерцали электрические фонари. Из темноты доносился негромкий разговор, неторопливые шаги прохожих.
За длинным рядом тополей, за плакучими ивами и плетнями перекликались квакши монотонным крр-крр-кр…
Нудные, протяжно-однообразные звуки даже на Арзакана, обычно бодрого и веселого, нагоняли меланхолию… Арзакан думал о Дзабули, которую еще в люльке прочили ему в невесты. Ему стало стыдно, что он проявил так мало интереса к тому, что сна рассказывала о себе.
Отец и мать хотели женить его на Дзабули. Как на ладони была раскрыта перед Арзаканом ее целомудренная жизнь и все беды, обрушившиеся на ее семью.
Мать до последнего времени называла ее своей невесткой.
Когда Дзабули приезжала в деревню, Хатуна целовала ее в большие черные глаза, а та ее — в левую грудь, грудь Арзакана.
Мысли юноши потянулись к матери. Так сильно захотелось ее увидеть, как это случалось в детстве, когда он учился в городе.
Знал, что она всегда тревожится за него, особенно с той поры, когда Арзакана назначили начальником отряда по ликвидации бандитизма и конокрадства.
— У тебя кости еще не окрепли, нан, куда тебе, нан, гоняться за разбойниками! — причитала Хатуна.
Немало советов и предостережений выслушал юноша и перед отъездом сюда, на скачки…
Арзакан вспомнил об абхазцах, которые, наверное, уже прискакали в город, и направился к вокзалу. Он был уверен: если абхазцы здесь, они непременно придут на вокзал встретить тбилисский поезд, поглядеть, кого он привез в Зугдиди.
Поезд уже прибыл. Но на перроне не видно было знакомых, приехавшие пассажиры почти все разошлись.
Арзакан прислонился к столбу и засмотрелся на паровоз, словно впервые его видел. Он разглядывал этого стального богатыря, сильного, грудастого, и бодрость вливалась в его сердце. Радостно было смотреть на сверкающие металлические части, на пылающее огненное чрево, на крепкие рычаги.
Беспокойно вздыхал паровоз, пыхтел, точно наигравшийся, пабодавшийся бугай. Нетерпеливым трепетом охвачены его гигантские мускулы и мощные сочленения. Кажется, не устоит на месте богатырь, вот-вот потянет длинную вереницу вагонов? Не отдохнув, ринется снова по недавно проложенной, не успевшей надоесть дороге, гордый тем восторгом, с которым встречают его абхазцы.
Тбилисский поезд! Кто знает, не скрестился ли он в пути с тем поездом, который вез в столицу Тамар?
Сердце вновь защемило. Не отрываясь, как ребенок, глядел Арзакан на могучую машину. Быть может, это единственная связь его с Тамар, единственное средство ее повидать…
Похоже, что человеческая мысль работала над идеей локомотива только для того, чтобы повезти Арзакана в эту темную ночь на поиски Тамар. Если бы не скачки, он, не раздумывая, помчался бы в Тбилиси.
Пусть Тамар любит Тараша Эмхвари. Только бы увидеть ее на миг, заглянуть в ее голубые глаза! Нигде, никогда не видал Арзакан таких глаз! Что сравнится с ними? Только этого жаждет Арзакан — увидеть ее глаза… и голубые жилки на висках. Голубые, да, голубые жилки.
Тысячу лет служили Звамбая всем этим Эмхвари и Шервашидзе. В тяжелом поту веками трудились на них, а те в благодарность еще совсем недавно, всего пятьдесят лет назад, продавали Звамбая на стамбульских рынках… Не Шервашидзе и Эмхвари, а они, Звамбая, пахали их поля, мотыжили их земли! Их детей выкармливали жены Звамбая, чтобы груди у княгинь Шервашидзе и Эмхвари не увядали раньше времени.
«Но теперь пришел праздник для Звамбая! Теперь — наше время! — думал Арзакан. — И поля наши, и посевы, и моря голубые, и небеса… и глаза голубые.
Неужели, сбив врага с породистого скакуна, уже нельзя садиться на того коня только потому, что прежде на нем гарцевал враг? Значит, Арзакану нужно возненавидеть любимого жеребца?!
Или возненавидеть соловья за то, что он пел когда-то под окном врага?!
Неужели нельзя срывать розы в саду только потому, что этим садом когда-то владел враг?!»
Арзакан вспомнил про Тбилиси. Он поступит в университет. Партия даст ему возможность учиться.
Для него партия была всем, для нее он каждую минуту готов был пожертвовать жизнью.
Не раз ради партии бросал Арзакан на весы свою юную жизнь. Арзакан беззаветно любит партию!
Партия ему поможет.
Арзакан блестяще окончит университет. Его давно влечет медицина.
А потом?
Потом его оставят при кафедре. Всю свою юношескую энергию Арзакан бросит на осуществление давно намеченной цели.
Посмотрим тогда, сильнее ли его князья в науке!
…Кто-то приветствовал его по-абхазски. Арзакан вздрогнул. Перед ним стоял улыбающийся Лукайя. Старик уговаривал его идти домой.
Довольно колебаться! Надо расспросить Лукайя о Тамар…
Но все же сначала он заговорил о Херипсе. Оказывается, Херипса вызвали в Тбилиси и он уехал вечерним поездом.
Арзакан спросил о Тамар. Он произнес ее имя, понизив голос и с такой осторожностью, так неуверенно, словно на это имя было наложено табу.
— Тамар? Она дома… играет в нарды с Тарашем, — ответил Лукайя.
— Как?.. Играет в нарды с Тарашем?!
Сердце у Арзакана сжалось. Наверное, после захода солнца священник принял лекарство и сразу заснул. Каролина возится с ребенком… Тараш остался наедине с Тамар…
Арзакан в упор смотрел на бледное, изможденное лицо Лукайя. А старик стал изливать поток жалоб на молодежь и ее антирелигиозную демонстрацию. Умолял Арзакана запретить «мальчишкам» издеваться над богом. Умолял так настойчиво, словно достаточно было Арзакану сказать одно слово, чтобы сразу прекратились все демонстрации.
— Где это слыхано? Какие-то крысенята, сопляки вздумали бунтовать против господа бога. — И Лукайя, теребя пуговицы Арзакана, брызгал ему слюной в лицо, заглядывал в глаза.
Старик домогался узнать, сочувствует ли Арзакан этим «ужасам», и ругал зугдидских большевиков. В Тбилиси ничего не знают о здешних безобразиях, а то бы здорово влетело комсомольцам!
Там и колоколов не снимали, обедни и вечерни служат. Сам католикос служит молебны.
Лукайя грозился, что пешком пойдет в Тбилиси, обо всем сообщит властям, расскажет католикосу о наглости здешних комсомольцев.
— Что для бога насмешки таких мошек, как мы с тобой, не правда ли? — говорил Лукайя, все ближе придвигаясь к Арзакану. — Бог великодушен. Он только смеется над богохульством. Не так ли?
Лукайя добивался хотя бы одного «да» от Арзакана. Арзакан вежливо, молча отступал. Не трудно было сказать старику желанное «да» и таким способом отвязаться от него. Но он знал, что завтра же это «да» Лукайя разнесет по всему городу. Отрезать ему — «нет»? Но тогда завяжется долгий спор, а ведь юродивого все равно не переубедишь.
И Арзакан молчал. Лукайя же, теребя застежки на его рубахе и крепко вцепившись в руку, наседал все с бoльшим остервенением. «Бог невидим, как мысль, неуязвим, как огонь, неисчерпаем, как вода, неуловим, как ветер, бездонен, как море!»