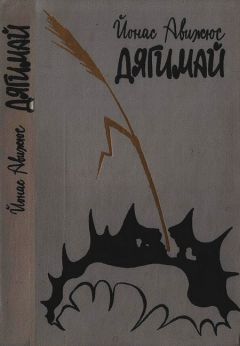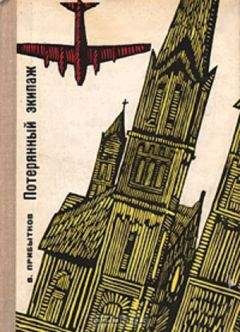Йонас Авижюс - Потерянный кров
Долгими зимними вечерами, когда бабушка засыпала, не досказав сказки, безудержная фантазия уносила Гедиминаса дальше звезд, и он на несколько часов становился властелином Вселенной — богом. Потом снова опускался на землю, вырезал вместе с деревенскими ребятами из дерева мечи, стрелы, делал луки и скакал верхом на палке освобождать от поляков Вильнюс. Или превращался в белку — хорошо зимой в дупле, а орехи такие вкусные! — и в уютном одиночестве дожидался весны. А весной он уже скворец, вернулся из теплых краев. Выбирает самую красивую скворечню (конечно, на родном хуторе), вьет гнездо, выводит птенцов. Хорошо, укромно в птичьем домике. Слышно, как дождь барабанит по дощатой крыше скворечни, как свистит у лаза ветер, как скребется за стеной кот, просится в домик. Нет уж! Никто не войдет в заколдованный замок скворца!
Дом, родной дом! Каждый раз, увидев радушно раскрытые твои объятия, чувствуешь себя скворцом ребяческих лет! Два каштана у ворот, посыпанный песочком двор — долго ждали тебя, милости просим; обомшелый горбатый журавль — добро пожаловать, низкий поклон; белая каменная изба со старой тесовой крышей, прижавшаяся бочком к саду, — как по тебе соскучились, позволь обнять… В скотном дворе пес прыгает на цепи и радостно скулит. Он тоже здоровается… И ты с ним здороваешься. С облизанными руками и лицом, ощущая запах псины, идешь к пруду, обсаженному плакучими березами. Тут же покосившаяся банька. Приотворил дверь, глянул в жирную, пропахшую дымом темноту. Идешь к гумну (старой бревенчатой постройке, со впалым соломенным хребтом), распахиваешь воротища… К хлеву, сеновалу. Снова раскрываешь дверь. Обходишь хутор своих отцов, как паломник святые места, отворяя все двери, и за каждой оставляешь часть бремени, которое навалило на твои плечи время. Пылинка за пылинкой стряхиваешь с одежды прах чужих дорог и возвращаешься к себе чистым и невесомым.
Отец уже во дворе — приехал с поля, забросав землей последнюю свекольную яму.
Мужчины обнимаются, прильнув лицом к лицу. Два человека, обобранные жизнью, больше чем когда-либо нуждающиеся друг в друге.
Гедиминас переодевается — поможет задать корм скоту.
Пронзительно скрипит старый журавль, звякают ведра. Милый сердцу запах сена и хлева! Старый фонарь с закопченным стеклом ковыляет с сеновала в амбар, в хлев и обратно. Нетерпеливо визжат свиньи. Блеют овцы. Просительно фыркают лошади.
Они идут от ясель к яслям, от корыта к корыту. Два добрых великана в мирке голодных малюток, раздающие хлеб и воду. За ними по пятам следует сытый покой. Слышны только жадное чавканье, шорох сена, бульканье пойла. И ласковые слова отца, — погрузившись в жизнь этого крохотного мирка, он обращается к скотине, как к человеку.
«Что бы ни случилось, крестьянин не будет одинок — у него есть животные».
Пока отец моет у колодца руки, Гедиминас зажигает в избе керосиновую лампу и обходит с ней комнаты. Здесь спала мама, там — бабушка. Рядом с кухней — комнатка сестры Анеле; ее теперь занимает Аквиле. Кровати без сенников, пустые и холодные, как гробы. Темные тени предметов лезут из углов, ползут по стенам, сливаясь с твоей тенью, вторгшейся сюда, как взломщик во храм. Уныло скрипят под ногами старые половицы. А ведь так весело гремели они когда-то под твоими ножками — таким же бесконечным осенним вечером, когда мама вязала перед очагом, отец у двери сучил веревки, а вы с сестрой играли в салки… Судьба сунула в весело жужжащий улей пылающую головешку, и вот он умирает, уютный домик, и не найдешь пасечника, который бы вдохнул в него новую жизнь, воскресил погибшую матку.
— Чего ищешь? — Голос отца из соседней комнаты.
Правда — чего? Щепотки соли, чтоб посыпать незаживающую рану?..
Гедиминас, подняв лампу, смотрит на стену. Скорбящая богоматерь, увенчанная ореолом из лучей, Христос в пустыне. Ниже — посеревший гипсовый барельеф Владаса Путвинскиса[16], повесил давней весной, когда получил аттестат зрелости. Юношеская дань патриотизму…
Кровь приливает к лицу. Он срывает барельеф с гвоздя и, присев на корточки, запихивает под кровать. Устало закрывает за собой дверь, садится за стол напротив отца.
— Тебе трудно одному, отец. Я мог бы вернуться в деревню, помочь тебе хозяйничать. Чему ты улыбаешься? Не забыл еще крестьянскую работу, не бойся. А то продай землю и перебирайся ко мне в город.
Миколас Джюгас насупил седые поредевшие брови, глядит исподлобья, с укором. В город! В этакое время, когда каждый цепляется за деревню, как за спасение!..
— Кому земля нужна, только чтоб нужду справить, тот пускай барышничает ею, как цыган лошадьми, — говорит он с подчеркнутой досадой. — Не стало у меня жены, дочери, Микол аса умыкнула война, мать умерла. Четырех человек как не бывало. За один-то год! Не каждому такой крест выпадает на долю. А ты — перебирайся в город! Мои корни тут, сын мой. Отцы отцов тут похоронены, все тропки моими ногами исхожены, вашими, детскими, избеганы. Куда ни пойду, все родное, свое, каждый куст о чем-нибудь напоминает. Что у меня осталось-то, кроме земли? Что я буду делать без нее? Дереву без корней не жить.
— Я тебя люблю, отец. Ты не один. И Миколас еще вернется из России. А может, он туда и не попал? Может, сбежал из полка в тот день, когда началась война? Много литовцев оказалось за границей…
Пока Гедиминас говорит, Миколас Джюгас смотрит на стену с равнодушным лицом — он слышать не хочет о сыне. Никаких надежд, не надо надеяться! Едва Гедиминас замолкает, он гнет свое:
— Вам, не нюхавшим земли, легко махнуть на нее рукой. Побатрачили бы у хозяев, попробовали хлеба из чужих рук — тогда ох как ценили бы клочок своей земли. А я, брат ты мой, из-за него, из-за этого клочка, три раза в госпитале лежал, чуть-чуть с головой не распрощался. За каждый гектар кровушкой плачено. А сколько пота пролил, пока корни мои здесь прижились? О-о, что говорить да вспоминать… — Миколас Джюгас задохнулся, дрожащими пальцами ухватился за край столешницы. В глазах отчаяние и еще что-то невысказанное. — Нет, сынок, чересчур дорого стоила мне земля, чтоб я повернулся к ней спиной, плюнул да ушел. И тебе незачем возвращаться в деревню. Не для того выводил тебя в люди, чтоб ты копошился в грязи. Я-то не могу без земли жить, она на моей крови замешена, слезами и по́том разбавлена, я в этой грязи по макушку увяз, а ты весь наверху. Давай оставаться где кому положено. Только не лезь в политику, как Вайнорасов Адомас. Власти приходят и уходят, а человеку при всякой власти положено сидеть у себя дома и делать свое дело.
— Дело — тоже политика, отец. Я иногда говорю себе: ты — учитель, твоя профессия не имеет ничего общего с оккупационными властями. Но я же от них получаю жалованье! За что? Видать, я им нужен, помогаю проводить их политику, служу им… Без меня оии не могут нормально функционировать, как без рабочего, делающего пушки, или без крестьянина, который выращивает хлеб для армии. Мы лишь крохотные колесики огромной государственной машины и вроде не хотим, чтоб она двигалась, а ведь крутимся-таки, хоть и против своей воли, вместе со всем механизмом, и толкаем машину вперед. В наше время, если хочешь спрятаться от политики, надо жить в непроходимом лесу, отгородившись от мира…
— Мудрено говоришь. — Миколас Джюгас помолчал, пожевал пустым ртом. — Выходит, всем в одной телеге сидеть и в одну дуду дудеть? Нет уж, сын мой. Я отвез властям, что положено, немец жрет мой хлеб, но людей я не убивал и евреев с винтовкой не гонял. Я кормилец, а не убивец. А ежели хлеб, который я вырастил, жрет убийца, ничего не попишешь. Мужик не виноват, что на земле всякой твари по паре, он не может раздавать хлеб только добрым людям.
«Он прав, мой добрый старик. Человек бессилен что-либо изменить. Все, что мы можем сделать, — это стараться остаться честными. Человек безоружен, но у него есть крепость — он сам, и, закрывшись в ней со своей совестью, он может обороняться».
Гедиминас рассеянно слушает отца, машинально вставляет слова. Его мысли далеко. Он замкнулся в себе — в неприступной крепости, которую нежданно-негаданно обрел. Осматривается в покоях, пробует на прочность стены, удивляется, что отсюда все кажется иным, чем он думал: шершавый голос отца превращается в мягкое и ласковое поучение мудрого пророка; пустота комнаты приходит в движение, наполняется звуками и светом; из открытой кухонной двери идет запах теплого варева; весело трещит огонь в очаге; звенит музыка выстраиваемой посуды… Когда Гедиминас впервые увидел, что Аквиле округлилась, и отец объяснил, за что Катре Курилка выгнала дочку, он возненавидел еще не явившегося в мир человечка. А теперь, полный до краев всепрощающей добротой, как сосуд чистой водой, он прислушивается к шелесту ее шагов, смотрит на руки, ставящие еду на стол, спокойной улыбкой отвечает на улыбку. Он может без дрожи, не потея от страха, смотреть ей в глаза и говорить с ней спокойно — так, как говорят «здравствуйте». Он уже свободен от тирании любви. От былых чувств осталась горстка дотлевающей золы.