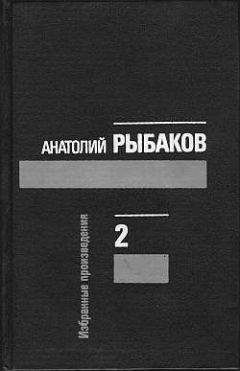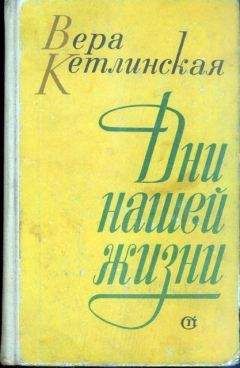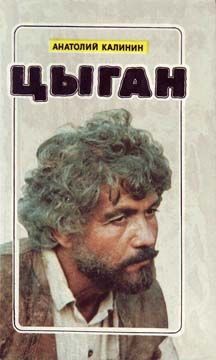Анатолий Рыбаков - Лето в Сосняках ис
— Виктор не выйдет даже в полуфинал, — объявил Студенков, — у Виктора нет удара левой.
— У тебя у самого нет удара левой, — обиделась девушка, похожая на негритяночку.
— В Мельбурне наши веса: полулегкий, легкий, первый полусредний, второй средний и полутяжелый. В остальных весах серебряные, — сказал Виктор.
— Брось ты свои прогнозы, — сказал Студенков, — что ты пророчил зимой, вспомни, когда наши поехали в Кортино д'Ампеццо?
Они заспорили об очках, голах, медалях. Девушка из ЦЗЛ пересела к Лиле на скамейку и сказала:
— Совсем не хочется спать. Правда? Хороший автобус.
— А я вижу огни Сосняков, — объявил Виктор.
— Музыка играет туш, — сказал Студенков.
11
Лиля встретила Ирину Колчину после работы на трамвайной остановке. Сдержанно кивнула ей — так обычно здоровалась со своими бывшими школьными подругами, не любила их, по ним видела, как стареет сама.
Ирина была такая же, как и в школе, — толстая, курносая, недалекая, но добрая, только старая. А ей столько же, сколько и Лиле.
— Как живешь?
— Спасибо, живу.
В вагоне они сидели друг против друга. Громыхая и звеня, трамвай несся по проложенным в степи рельсам, задерживаясь на редких остановках, похожих на полустанки, с невысокими деревянными платформами и одиноким фонарем посередине. Узкие деревянные тротуары, переброшенные через шоссе, соединяли платформы с воротами заводов, номера или названия которых кондукторша объявляла монотонным голосом: «двадцать четвертый», «восемнадцатый», «Корд», «Калинина», «ТЭЦ», «насосная», «регенераторный»… И только когда трамвай стал приближаться к городу, она объявила первую улицу — «Овражная».
— Про комиссию знаешь? — спросила Лиля.
— Какую комиссию?
— Насчет твоего отца. Выясняют.
— А чего выяснять, нечего выяснять.
— Довели его, говорят. Миронов довел, знаешь Миронова?
— Глупости все это.
— А ты не слышала?
— Не слышала.
Странное дело: Лиля верила ей. Не хотела верить, а верила. Она не дружила с ней после школы. Встретятся на улице или в проходной, кивнут друг другу, перекинутся словом — вот и все. И все же Лиля верила ей.
— Где твоя мама?
— В Пензу уехала, сестры там у нее.
— Одна живешь?
— Одна.
— Заехать к тебе, что ли, на минуточку, давно в этих местах не была.
— Чего же, буду рада.
Давно не сходила Лиля на этой остановке. Бараки, где жила она когда-то, снесли, новых домов не построили — заводы слишком близко. И только на берегу реки, как и раньше, стояли итээровские коттеджи.
Они обветшали, старые, облупленные, заставленные сараями и навесами. И та же твердая, как камень, тропинка, строительный мусор, сваленный по оврагам, продуктовый ларек в выцветшей голубой краске, с пачками «Беломора» и дешевыми конфетами за стеклом.
И этот старый, запущенный дом, в котором она бывала девочкой. Колчин приходил к ним в барак, брал ее поиграть с Ириной. Фаина одевала ее почище — в гости идет, к инженеру, в хороший дом. Тогда этот дом действительно казался Лиле хорошим, особенным: ничего, кроме барака, она не видела. Она вспомнила запах ватрушек, которыми ее здесь угощали, румяных, горячих ватрушек со сладким творогом. Теперь здесь пахло пылью, скрипели под ногами рассохшиеся половицы, шуршали старые обои, вздувшиеся и отставшие от стен.
Флегматичная Ирина была возбуждена. Лиля Кузнецова, франтиха, столичная штучка, сидит у нее в комнате, нога на ногу, курит сигареты, весело рассказывает о своей жизни, о своем неудачном замужестве.
— Он работал в кино — оператором на кинохронике, — рассказывала Лиля. — Ну что тебе сказать? Пока мы ездили на футбол или ходили в ресторан, все было мило, а как началась настоящая жизнь — оказалось не то. Дома ему скучно, всем недоволен, сам не знает, чего хочет… И мамочка его во все вмешивалась. Он у нее «единственный». Он жил в Верхнем, я в Сосняках… Как-то он долго не приезжал, дней пять, наверно. Я к этому привыкла, он иногда неделями не появлялся — уезжал на съемки. А в этот раз я знала, что он в Верхнем и никаких съемок нет. Мне это было безразлично, я уже понимала, что жизни не будет. С ним не ладилось, с мамашей его не ладилось, и на Фаину они косились, а разве я позволю на Фаину коситься? Все понимала, а обидно: заставляет меня сидеть одну, я тогда была уже на шестом месяце. В это время, сама знаешь, все задевает, все кажется обидным. Вечером я собралась и поехала в Верхний. Открывает дверь его мамочка, увидела меня. «Эдика нет дома», а сама стоит в дверях, растерялась. Я вхожу, Эдик мой сидит за столом с девицей, выпивают, рука его у нее на плече, — Лиля засмеялась, — смотрят на меня, онемели от ужаса. А мамаша шепчет за моей спиной: «Лилечка, Лилечка…» Я стою и раздумываю, что надо в таких случаях делать. Ведь полагается что-то делать: скандалить, тарелки на пол кидать. А я ничего не могу и ничего не хочу, только уйти. У меня скоро ребенок должен быть. Повернулась и ушла… Приехала домой, собрала его барахло и отослала с Фаиной, — Лиля опять засмеялась, — ну а что им там Фаина выдавала, за это я, конечно, не отвечаю.
— Вот как у тебя получилось… — Ирина покачала головой, — такая красотка… Как ты в Москву уехала, ну, думаю, не вернется наша Лилька, устроит свою жизнь.
— Люди везде одинаковые, — пожала плечами Лиля. — А мне серьезные никогда не попадались. Всё такие, знаешь, для компании. Пока я была рядом — были хороши со мной, а когда рядом не было — забывали. Я перекидывала сумочку через плечо, — Лиля взмахнула рукой, показывая, как она перекидывала сумочку через плечо, — и никто не спрашивал, куда я пойду, есть ли мне куда идти. Знали, что мне некуда идти, и потому не спрашивали. А что они могли для меня сделать? Ни-че-го!
— Да уж, — сочувственно проговорила Ирина, — пришлось тебе хлебнуть.
— И знаешь, — грустно улыбаясь, продолжала Лиля, — только таким мальчишкам я и нравилась. И откровенно сказать: и они мне тогда нравились, просто так нравились, по-человечески. Веселые, беззаботные, живут, как птицы, и чего их шпыняют! И как они говорили, мне нравилось: «кир», еще как-то, я уже не помню.
Лиля улыбнулась своим воспоминаниям, потом тряхнула головой:
— Вот так… Я и решила после Москвы — все! Надо прибиваться к берегу. Заведу семью, выпишу мать, хватит! Вот и выскочила. Выскочила и обожглась.
— Помогает он тебе? — спросила Ирина.
— Ты что! — ответила Лиля. — Не могу я собственного ребенка прокормить? Нужны мне его деньги!
Ирина вздохнула:
— Тебе хорошо, ты красивая, ты свое возьмешь.
Жалуясь на судьбу, Ирина рассказала печальную историю своих неудач. Отец был причиной ее невзгод и несчастий.
— Ни один человек ко мне не заходил. «Не желаю я чужого человека в доме, не пропишу, на порог не пущу», — вот как он ставил вопрос. Могла я удержать кого?
— Что ж ты, маленькая была? Совершеннолетняя. Имела право привести кого хочешь. Тем более мужа.
— Боялась я его, немела, честное слово! Взгляд как у Николая Первого, я в кино видела, такой оловянный взгляд. Он меня ненавидел, и мать ненавидел, весь дом, всю семью.
— За что так?
— Спроси его! А ведь, когда я была маленькая, любил меня. Мать рассказывала, и я сама помню, смутно, конечно. А потом изменился. Жизнь тяжелая, отца расстреляли.
— Кого расстреляли?
— Его отца. Дедушку моего.
— Когда?
— А когда и других.
Лиля ошеломленно смотрела на нее.
— Мы и бумажку получили, его реабилитировали.
Из альбома, где лежали фотографии, Ирина достала конверт, протянула Лиле сложенную вчетверо бумажку. Такое же извещение, какое получила Лиля об отце: «За отсутствием состава преступления дело прекратить…»
— Ему было плохо. А мы при чем? — продолжала Ирина. — Мы чем виноваты? Нас за что ел? Грешно про покойника плохое говорить, но, знаешь, характер был такой, трудно передать. Что я от него вытерпела, боже мой, жизни не было, даже сейчас бьет по нервам. Поверишь — как вечер, так двери на запоры, сидим, как в домзаке, ни войти, ни выйти. Станет за занавеской и на улицу смотрит. На чердаке себе ну прямо сторожевую вышку устроил, из окошка всю улицу видно, все подходы. И никого я не могла к себе привести. Не то что мужчину — подруги и то не допускал. Ведь, кроме тебя, никто не ходил к нам. А как ты в Москву уехала, так все, никого не пускал.
— Чего же он боялся, может, деньги копил?
Ирина скосила глаза:
— Откуда им быть, деньгам? Как там ни говори, семья, дом — пай выплатили. Не в деньгах дело. Не мог страх перебороть. Как дедушку расстреляли, так он уже больше не мог страх перебороть.
— У меня тоже отца расстреляли.
— Ты девчонкой была, что ты понимала?
— Думаешь, мне от этого было легче?
— У тебя один характер, у него другой, — не стала спорить Ирина.