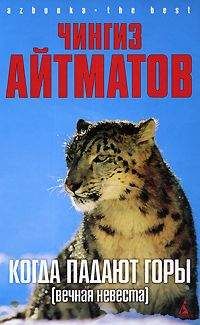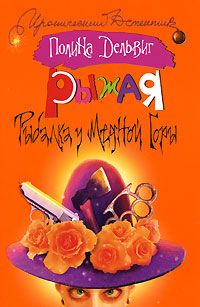Аркадий Первенцев - Гамаюн — птица вещая
Дальше последовала популярная лекция, позволявшая убедиться, что подбор кадров на «специфическом производстве» находится в надежных руках.
— Безусловно, рекомендация товарища Ожигалова... — сказал кадровик и тут же высоко отозвался о секретаре партийной организации. После этого он коснулся щекотливого вопроса — о жилье.
— Сам ючусь невесть где, — признался кадровик, и длинные руки его сделали несколько резких движений. — Если бы вы прибыли из Тюрингии, к примеру, ну, тогда, как говорится, другая мануфактура...
— Я определюсь как-нибудь.
— Вопросов не задаю. Пока примем и без прописки. В какой части служили?
Бурлаков назвал дивизию, командира.
— Красивая дивизия, а комдив ваш в анналы записанный! В анналы революции и гражданской войны. Итак, поздравляю, сегодня оформляйтесь, а завтра — к гудку. Военный, комсомольский учет, как и положено. Понимаете?
— Разберусь... Спасибо...
— Тогда не задерживаю. Следующий!
В коридоре встречались рабочие. Они были в таких же костюмах, как и служащие, и пришли в заводоуправление не из цехов, а из дому, и тем не менее можно было по их внешнему виду и по укоренившимся запахам безошибочно угадать, что это рабочие. Эти запахи были памятны Николаю еще с детства, когда, повинуясь жажде открытий, они, ребята, бегали из села на железнодорожную станцию и вдыхали там запахи нагретых солнцем рельсов, тендера, поршней, глядели на машинистов, высунувшихся из окошек локомотива. Он помнил и мастерскую по ремонту тракторов, разлитую на земляном полу «отработку», масленки с тонкими металлическими носиками...
Пусть конторщик, дооформлявший Бурлакова, был равнодушен и напоминал человека, измученного желтухой; пусть его вялые пальцы небрежно выписывали путевку чужой жизни; пусть он даже не поднял на Николая глаза — неважно... Главное свершилось, приобрело реальные формы. Завтра можно равноправно явиться сюда, занять свое место, быть вместе со всеми, а не бродить в одиночку, подвергая себя случайностям.
Совсем близко рокотало производство. Слышался пронзительный и стойкий визг пилы. Глухо стучал молот, подрагивала запыленная трехрожковая люстра.
Николай вышел во двор, отделенный от фабричного высоким забором из металлических прутьев с коваными узлами креплении и завитушками. Бывший хозяин с немецкой аккуратностью радел о своем предприятии. Направо, в одноэтажном здании с крутой кровлей и гладкими кирпичными стенами, — столовая. При немце тут также находилась столовая для рабочих и инженеров.
Как же устраиваться дальше? Денег не было, авансов не выдавали. Оставался Квасов. У него можно занять до получки, да он и без просьбы не бросит товарища. Хорош он или плох, а вот такой, как есть, — надежный. Если бы не встретился Ожигалов, Квасов бы помог Николаю. Не только устроил бы, но и накормил. После раннего скудного завтрака хотелось есть.
Голубой столбик наружного термометра спустился почти до тридцати градусов. Мороз давал себя чувствовать через сукно шинели. Ехать домой, в общежитие, в Петровский парк? Завалиться спать, пока возвратится Квасов? Но тут на выручку полуголодному человеку подоспел Ожигалов, решивший перекусить перед серьезным совещанием у директора по поводу нового заказа, связанного с артиллерийским перевооружением армии.
Ожигалов натолкнулся на Бурлакова и увлек его за собой в столовую. Вместе с ним был член бюро и мастер цеха Гаслов, которого по привычке называли, как и раньше, медницким.
Гаслов (так же, как и Фомин) был фактически начальником цеха, того самого, где раньше выколачивали короба автоклавов, штамповали и гнули латунный лист, делали жестяные корпуса термостатов. Впоследствии пришли другие заказы. Медницкий полуподвальный цех расширился, добавили оборудование, хотя многие работы по-прежнему производили вручную.
В столовой недорого кормили пшенным супом, кроличьим рагу и компотом, но при этом нужно было сдать продовольственную карточку. Без нее цены поднимались. Ударникам полагался дополнительный паек — манная запеканка, политая жидким киселем из клюквы.
— Мы спешим, Коля, — разъяснил Ожигалов, — глотаем, как гусаки. Совещание у директора. Принимаем новый заказ. — К Гаслову: — Вчера Парранский приходил...
— В партию хочет? — Гаслов любопытно приподнял брови.
— Нет. Советовался... — Ожигалов посмотрел на часы. — Спешить надо.
— Советовался? Это уже достижение.
— Говорит, у вас вакханалия.
— Вакханалия? В государстве или, может, в партии? — Улыбка, бродившая на лице Гаслова, исчезла. — Любят они гнусности болтать...
— Он имел в виду стоимость приборов. Вакханалию норм и расценок... Много денег съедаем...
— А-а-а... — протянул Гаслов. — Ну и что?
— Ломакина не знаешь? У него пролетарский инстинкт.
Гаслов сказал:
— Ты не давай Ломакина в обиду. Парранский только и может, что хворостину на коленке сломать, а Ломакин гору перекинет.
— Никто на Алексея Ивановича и не замахивается, к чему ты? Речь идет о таких, к примеру, как Фомин. Любит Фомин рыбку в мутной воде ловить.
— Новый заказ — это темная вода, как не половить? — сказал Гаслов, не скрывая недружелюбия к Фомину.
Ожигалов и Гаслов одновременно вытащили кошельки.
Ожигалов заплатил и за Бурлакова. Это не ускользнуло от внимания Гаслова.
— Паренек начинает без гроша в кармане, — объяснил Ожигалов. — Какие были сбережения — родителям на коровенку оставил. Ведь на коровенку?
— Угадали, — подтвердил Николай, чувствуя, как его лицо заливает краска.
Чтобы перебороть свое смущение, грубовато спросил поднявшегося из-за стола Ожигалова:
— Ваш Парранский — инженер?
— Главный инженер. Иначе — технический директор.
— С двумя «эр»?
— С двумя, — Гаслов засмеялся. В пушистых усах сверкнули крупные зубы.
— Ты знаешь его? — спросил Ожигалов. — Жора информировал?
— Нет. Познакомился с ним случайно. Оказывается, не нырнул он в бездну...
Ожигалов заторопился.
— Потом расскажешь. Пошагали, Гаслов!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Кабинет директора Ломакина был на втором этаже и всеми четырьмя окнами выходил на «чистый» двор фабрики. В кабинете сохранилась от прежнего хозяина мебель, будто вырезанная из массивных кусков дерева, с львиными лапами ножек, вычурными узорами на дверках шкафов и медными петлями.
Дубовая панель, занимавшая две трети стен, казалось, навечно утверждала власть владельца. Оторвать его от этой массивной мебели, от панелей, от люстр, от кованых ворот могла только какая-то неимоверная сила. Все было сделано добротно и крепко, динамитом не поднять. И вот старая тачка, на которой вывозили мусор, выбросила самого хозяина за ворота. Тачку не сохранили, не поместили в музей, не навесили на нее инвентарный номер, а, как и положено, использовали на работе «до ручки» и выбросили на свалку.
Пришедшие на совещание пили чай из так называемых мюллеровских стаканов, без блюдечек, обжигали пальцы, хрустели даровым рафинадом и окаменевшим печеньем. Эти сокровища обычно хранил чуть ли не за пломбами честнейший директорский помощник — секретарь, неказистый на вид Семен Семенович Стряпухин (он происходил, как писалось в анкетах, из личных потомственных граждан приокского города Алексина).
Ломакин тоже пил чай из стакана, который он держал в сложенных тюльпанчиком коротких «плебейских» пальцах. Мучительно наморщив лоб, он слушал изобретателя. Оперируя формулами и цифрами, изобретатель, черкая мелом на доске, уверенно доказывал преимущество предлагаемого им прибора для координации стрельбы батарей.
Отложной ворот френча директора взмок. Гладко выбритые щеки лоснились от пота. Ломакину тяжело давались формулы, хотя он окончил Промышленную академию и без опаски вступал в спор по общеполитическим вопросам с любым собеседником. В данном же случае ему пришлось иметь дело с дотошным изобретателем, по заслугам награжденным орденом, с конструктором, имеющим доступ к верхам и ни разу еще не заподозренным во вредительстве. Изобретатель с изумительной энергией «подавал» свое детище.
Худой, нервный, с впалой грудью и подвижными руками, он доказывал преимущество своего прибора. С точки зрения артиллеристов, такой прибор обеспечивал базу метчайшей стрельбы, групповую сокрушительную точность покрытия любой цели. Ни один снаряд не падал даром, ни один килограмм взрывчатки и металла не расходовался понапрасну. Тухачевский и подчиненное ему ведомство артиллерийского снабжения рекомендовали выдержавший испытание прибор в серийное производство.
Производственники, группа мастеров и цеховых начальников, сидели ближе к дверям и у окон. Все они были похожи друг на друга: те же черные шевиотовые пиджаки, мятые штаны, грубая обувь и серые, усталые лица. Они пили чай без всякого удовольствия, будто исполняя повинность. Их внимание было сосредоточено на схематическом чертеже, по которому бегала указка конструктора.