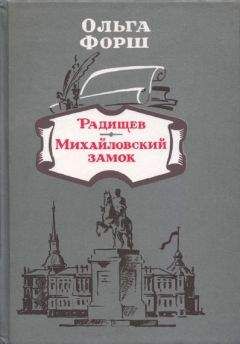Ольга Форш - Сумасшедший корабль
Мертвый, он уже не был похож на себя, он весь перешел в свои книги. А человеческое сходство, по определению его матери, как могло быть только в чудесном творчестве Гофмана, — перекинулось на издателя его книг.
Еще однажды, в такой же день крепкой осени, каким был день его похорон, окаменевший профиль поэта увиделся автору на синеве неба, на севере им воспетой Италии.
Хребты гор были густо в снегу, а бурные речки мутно-зелены. Над островерхими колокольнями чернели фортеции. Оттого, что не было серебристой дымки, как на юге, весь пейзаж вставал отчетливый, тонкий, как рисунок пером, протертый белилами. И отрадна была глазам яркость густожелтых стручков перца, для сушки воздетых на палки. Высоко древний замок с бойницами, сине-яркое над ним небо. На небе силуэтами снежный горный хребет, как эхо повторяющий архитектуру древнего замка. А на южных оврагах, в зеленых долинах — поет ручей, цветет миндаль…
И вдруг сами собой, твердые, с присущей голосу Гаэтана убеждающей страстью, однотонной, как этот гравюрный пейзаж, сказались его стихи:
Не верю, не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл.
А в газете были занесены, как вчера, все происшествия дня. На желтой бумаге слепой, тусклой печатью сообщалось о том, что скандинавские государства готовы оказать помощь, если соввласть демобилизует красноармейцев. Газетчики выражали еще свое презрение мелкобуржуазными словами и навыками: «Эти милостивые государи, которые готовят удар для Советской России, показывают свое благородство, раскрывая себя, как настоящих Шейлоков» (еще предполагалось обязательным знание Шекспира).
Остался в памяти анонс расширенного заседания пленума Петроградского Совета, как в тот год еще писалось, полным титулом, Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов: «Доклад комиссии помощи голодающим. Трамвай обеспечен в оба конца». И непосредственно, как будто продолжение текста:
Сегодня, 10 августа,
состоятся похороны поэта А.А.Блока
На третьей странице газеты объявлялся постоянный конкурс на поэтические произведения. Литотдел Наркомпроса определил за лучшую поэму один миллион.
И подумалось… Пройдут года. По капризу истории останется от всего нашего времени вдруг одна только эта газета, и восславит на ее основании грядущий изыскатель наш век не как ему подобает — веком переворотов социальных, а веком небывалого почета искусства, когда в день смерти поэта объявлялась награда в миллион продолжателям его дела. Тем естественнее будет грядущему историку утвердиться в своем положении, что немного пониже, в отделе особых распоряжений, в газете стояло: «Обезличивание мебели в Петроградской губернии прекращается».
Грядисторик скажет, конечно, на ином, нам еще неведомом языке, но по смыслу приблизительно так: «В начале XX века расцвет индивидуализма был так велик, что властям заступаться приходилось уже не за людей, не даже за животных, в интересах сохранения их лица и характера, а лишь только за предметы неодушевленные».
Жуканец сказал Сохатому после похорон Гаэтана:
— С ним кончилась любовь. Будут, конечно, возвращения, но так воспеть, как воспел ее он, никто уже не сможет и… и не захочет воспевать. Эта страница закрыта с ним навсегда. И еще скажу — прочитанная вашим поколением поколению нашему она уже совсем не звучит.
— Что же взамен у поколения вашего?
— Коллектив! — сказал твердо Жуканец. — Повторяю, это не выдумка, это клич нашего века. Дай срок, мы в коллектив все сгребем. Перемелем, процедим, отберем жемчужные зерна. Ты только послушай, Сохатый, разве не грандиозно, не увлекательно, ну что ни тронь… хоть социализацию нархозяйства…
И путь так торжествующе ясен — слияние крепких совтрестов таким образом, что в каждой отдельной отрасли социализируемого производства останется лишь один трест. Следующий этап — ряд таких мощных трестов, примыкающих друг к другу, объединяются в комбинаты, уже не знающие себе конкурса на рынке. И, наконец, вершина пирамиды — окончательное слияние комбинатов в один последний, единственный, всеобъемлющий. Он завершит социализацию народного хозяйства.
— Что ж, грандиозно, — процедил Сохатый. — А вот как с человеком? И пирамидой не разрешить вам запросы личности.
— Разрешим, Сохатый! Один в такой мере напитан будет всеми, что станет как в море волна среди волн. Набегает вал на скалу, разбивается — и опять безущербное целое.
— На то и закон жидких тел, — согласился унылый Сохатый. — Но ведь я…
— Ну и ты не дешевле Фонтанки. А она, браток, с Невой прямо в море. Ergo14, выползай из норы и валяй с нами в ногу. Ать, два! Надо такой выстроить коллектив, чтобы для одиночной закрытости только чуть-чуть…
— С фиговый лист, — ухмыльнулся Сохатый. — Ну, а с любовью-то как при упразднении личсклонностей? В графу конзаводов ее?
— Не глупи, а учись. Любовь как личная склонность примет иную форму, и сила ее будет, не разрушая, не поглощая, только множить собою тонус жизни. Та же ваша любовь умерла с Гаэтаном.
После смерти Гаэтана пошли до странности быстрые, как бы нетерпеливые завершения всех тех горячих, кто силы свои должен был и мог сложить только с веком уходящим.
Под вечер один поэт, с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила, шепелявя, сказал обитателям Сумасшедшего Корабля:
— У кого есть что-нибудь для секции детской литературы, принесите мне завтра.
Ночью его арестовали. Никто не знал почему, но думали — конечно, пустяки.
Не текли, спрыгивали дни один за другим, с усилием прыгунов на стадионе в состязании на длину. Как им только в самом начале надо было сделать усилие, чтоб потом лететь по инерции и врыться в песок, так и корабельцам труден был лишь первый миг утреннего вставания в обхвате холодного голода. С огоньком буржуйки энергия приливала и уже носила до вечера по учреждениям, заседаниям, выступлениям. Еще не у всех были академические пайки, и осаждали «генуэзскую крепость», — заведующего ими Волосатика. Волосатик же кого огорчал, кого радовал.
А в нижнем этаже Сумасшедшего Корабля своим чередом шли балы. В залы безвкуснейшей роскоши набегали в нарядах стервозочки с улиц. Начальствующая над писателями прислуга бывшего дома Ерофеевых, тряхнув стариной, облекалась в лакейские фраки и перчатки снежной белизны. Став снова лакеями, они подавали стервозочкам блюда, каких не могли есть писатели. Они, как музыку, ловили звоны ножей о стакан с былым возгласом: «Ч-эк!» и отдыхали на миг в былом твердокаменном бытии. Хоть на один вечер опять они были не постылые граждане, а понятные прежние «люди».
За залами, в интимной гостиной, любимец Корабля Геня Чорн ставил в сотрудничестве недомерков по инсценировке Вовочки новый вариант на «Бриллианты пролетарского писателя Фомы Жанова».
Корабельная прима-красавица Ия, предмет мечтаний на побывку с ней в загсе юнцов, изображала проституточку Соньку Ноган. Эта Сонька Ноган, распропагандированная культкомиссией, став гражданкой и перейдя на честную труджизнь, сочла долгом сообщить в ВЧК, что у одного из ее бывших гостей на подштанниках была графская корона. Эта корона оказалась истинной сущностью, утаенной в анкетах, пролетарского писателя Фомы Жанова. Роль Фомы Геня Чорн назначил выполнить приехавшему из Москвы на гастроли писателю Сосняку. ВЧК приказала Соньке Ноган принести ей поличные с графской короной. Сонька шагнула на писателя Сосняка, симулируя жестами исполнение предписания, и: «Туши свет!» — щадя целомудрие зрителя, крикнул Чорн. Сосняк, взволнованный красотой Соньки, ожидая легчайших ее касаний, встав со стула, пошел сам навстречу событиям. Сонька взвизгнула. «Свет обратно!» — крикнул Чорн и педагогически сказал Сосняку: «Ваша роль, товарищ, определенно пассивна и эпизодична. Прошу сесть обратно». Сосняк, взбудораженный чарами Соньки Ноган, загремел мимо стула на штучный паркет, но не потерявший присутствия духа Геня Чорн вызвал «скорую помощь». Трем недомеркам, вставшим на четыре ноги, был возложен на спины Сосняк и вывезен в анатомический для ампутации ног и рук.
Грохотал смехом зал. А поглубже в коридорах, у входа, две трепетные женщины ловили уходящего на заседание коммуниста-кавказца.
Да, они знали, что их просьба бессмысленна, что кавказец работает в учреждении вполне штатском, но все-таки как коммунист он был ближе…
Вперебивку они шептали:
— Ах, не взяли у нас передачу…
Кавказец с акцентом сказал:
— Зачэм и не взяли, что сыты. Там кушают хорошо!
Оттого, что кавказец говорил ласково и с акцентом, показалось, что опасного быть не может ничего, и женщины успокоились до завтра.