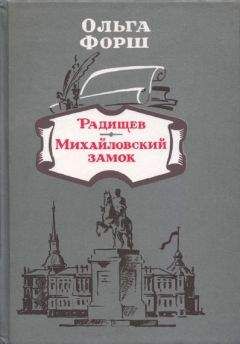Ольга Форш - Сумасшедший корабль
— Пожалуй, — согласился Сохатый. — Спасибо, на «завод» для рефлексии хоть это осталось.
— Врешь, как в хрестоматиях попугаи. Мы вам и этого не оставим. Ты и твои однолетки — последние, брат, могикане. Ни один комсомолец на этом проспекте уже Раскольникова не помянет. Да еще прикажете с «топором, вдетым в пресловутую внутреннюю петлю пальто». Я, правда, эту психозику знаю, но лишь потому, что мне надо по профессии так читать, как читали вы, — чтоб навсегда. Вроде как собственную жизнь. Дудки! Нынешним, браток, одна действительность — книга.
— Сколько бессонных ночей, по крайней мере у трех поколений, над поставленной там проблемой, — сказал Сохатый. — Над проблемой — посмею или нет? И можно ли, можно ли, даже ежели вошь? В чьей истории этот роман не был эпохой? А сейчас про Раскольникова в лучшем случае говорят: ну и дурак, на что время терял.
— И правы. Скучно, браток. Если для дела нужно убить, ясно, из нас каждый убьет, а канителиться на пустом месте на целых на шесть частей, да на оба фронта еще дурака свалять… это просто злостный прогул. Да, в современном восприятии твой Раскольников не черт, а злостный прогульщик. Проблема же, можно ль убить вообще, — для нас и во сне не стоит. И правильно. Да ты чего, собственно, хочешь? — уставился Жуканец на Сохатого.
— Хочу верить, любить, жить, глупеть…
— Ну, глупеть тебе будто уж некуда, в калошу сел и сиди. Я таких, как ты, без жалости вывожу в своей схеме в расход. У меня, браток, «схема нового человека». Как-нибудь покажу, когда кончу. Тут социализм создает все новое, а ты, как ленивый мерин, в стойло назад. Я же увлечен слепить такого субчика, у которого остатков личных просто-напросто вовсе не будет. Все до точки в соцстроительство! Облегчится, на крылах полетит. И современный быт, сказать надо, весьма удачно работает мне на подмогу. Как затиснут тебя окончательно жилплощадью, защемят подоходным, как набегут, гляди, алиментишки — он в тебе удушится сам собой, твой ветхозаветный. Кругом примеры кишат. И либо подохнуть будет упорным, либо вспыхнуть всеми закорками наивысших ресурсов интеллекта, воли и творчества.
— Пожалуй, что и так. Как пчела из армянского анекдота, — сказал уныло Сохатый. — Снаружи гроза ее хлещет, а ей одно спасенье — в слишком тесный улей влезать.
— Ну, и что же пчела?
— Пищит, а лезет.
В конце концов Сохатый нацелился в провинцию служить массам. Он собрался охотно, не переставая тайно лелеять, что в нетронутой городской порчей среде он скорее обретет и свое столь желанное личное дополнение.
Укладывать вещи Сохатого пришла известная нам Дарьюшка, у которой вскормленником был товарищ Глобус. Автор сердечно рад ее приходу, потому что, предоставив ей укладку чемоданов Сохатого, он сам в то время одним ударом прикончит обе затянувшиеся фабулы и в дальнейшем расчистит в своем произведении место волнам уже характера общего.
Заворачивая в «Красную газету» сохатые вещи, Дарьюшка мерной речью поведала ему, что произошло у нее в доме после похода к целителю Епимаху.
— …Варю, варю ему, батюшке моему, товарищу Глобусу, яички в мешок под тройную под вотчу и верую, что душеньке и телу его они во спасенье. Идет старцева благодать ему внутрь. А он, гляди, мой Евгешенька, заболел пуще. Вот и смекаю: конечно, старец блаженный, а что, коль и на него есть проруха? Сказал, что оно наружное звездой мечено, ну а если, между прочим, насквозь? А тут еще во сне мать Евгеши приснилась.
— Та ваша обидчица, что с крученым Жоржем сгинула?
— Ишь, запомнили, батюшка. Она самая. Ножкой на меня топает, кричит: «Это ты моего сына в новую хворь вогнала. Ему душу спасать — тело сгубить!» Ох и маялась я. Послушаться сновидения — Евгешеньке огонь геенский. Ведь и в плиту палец сунешь, полдырем возьмет, а тут, шутка ли, целиком да навеки. Я к Феоне Власьевне. А ей что? Вари, говорит, вари под вотчу, раз старец сказал. Зря тебя, что ли, сводила? На меня еще беду накличешь. А наше все тело — тьфу! Твоему товарищу Глобусу душеньку надо спасать.
Хорошо ей говорить — тело тьфу. А я как вспомню: Евгеша на службу идет, высокий, с нашивками, с орденом. Или сейчас, больной, схилит головку, а у него на затылке мысочек, бывало, в ванночку его посажу, за эту косичку дерну. И жаль стало мне, батюшка, именно тела его — видное все, знакомое, вырощенное. То вспомню, как зубки резались, молочные мышке вдвоем отдавали, то шрамчик на лбу, не военный, а тот, самый детский, от худобы выступил, сам с резвости о камни саданул. И грешные у меня мысли пошли… Гоню, пуще всплывают. Побилась я мукой между Евгешиным телом и душенькой, и биться мочи не стало. Дошла: что своим глазом вижу, то, думаю, и спасу ему. И перестала я под вотчу яички варить. Без молитвы варю, под простой, значит, счет: раз, два, три. Когда до сотенки с грехом пополам доберусь, а когда менее. Непривычно мне — то не дочту, то перечту. А на яичках отражение. И капризиться стал Евгешенька. Что это, нянька, с тобой? Бывало, всегда яйца в точку, а сейчас у тебя либо недогон, либо перегон? Слабый он, от болезни шейка тонкая, уж какой там товарищ Глобус, опять весь один мой, Евгешенька. А капризиться ему очень вредно. Не стерпела я как-то и снова под вотчу наладилась. Уж не ради душеньки его, а для аппетита. Яички с похвалой съел. И, батюшки светы, вдруг температура. Пришел доктор. Может, случайное, говорит, но скорей возвращенный кем-то тиф. Сердце мое тук-тук. Кем может быть тиф возвращенный? Кроме меня, здесь никого. Бах я перед Евгешенькой на колени. Сгубила тебя. Прости бабу глупую… И про вотчу ему чисто-начисто. Ну и хохотал тут Евгешенька. Колики взяли. Ах, ты дура моя, говорит, дура родимая. Да вари ты те яйца как влезет, под вотчу там или под что другое, только бы были в мешок. И такая легкость меж нами, такое веселье. Евгений же Юрьевич, товарищ Глобус, поправляются.
В заключенье Дарьюшка в путь-дорогу гадала Сохатому «на пикову даму» и рассказала замечательное народное поверье, которое воскресило прямое призвание Сохатого — собирателя быта и сказа.
Предание же таково.
Если гадюке человек разобьет голову, а самое ее не сожжет на костре и бросит на землю, то ночью сползутся гадючьи все кумовья и сестрицы и высосут ей из тела новую голову. И уж новой этой головой гадюка ужалит обязательно человека.
Волна шестая
Нет, не кончилась фабула «Сохатый» в волне предыдущей, хотя вещи сохатые уложены были Дарьюшкой, хотя на картах вышла ему путь-дорога.
Некто дал свидетельское показание, что при взгляде на карточки, выпавшие из-за корсажа Ядвиги, у Сохатого вырвалось: «Панна Ванда!» Сохатый был вызван на допрос, ему карточки были представлены — но что же? Иллюзорными предстали его впечатления. Изображены были, точно, две польки, схожие с теми, столь близкими его сердцу, но все же не они.
Следствие, впрочем, уже установило, что никакой связи в загадочной смерти Ядвиги с исчезновением тех панн из кафе «Варшавянка» быть не могло. Сохатого отпустили.
Он был разбит и сказал мрачно Жуканцу:
— Какое в романтике отсутствие базы!
Его утешил Жуканец, как мог:
— Обстоятельства личные тебя вперли в период «учета и контроля» — без него же и к первой ступеньке не суйся. А переходить к нам, браток, надобно, потому что коллектив — слово нашего века, а не выдумка кабинетных голов. Сам же понял ты про пчелу — пищит, а лезет. Критика чувств идеальных — начало контроля. Поздравляю, брат, с первой ступенью.
И Жуканец предложил Сохатому сотрудничество в одной твердой схеме, основанной на учете, освобождающем от томлений по осужденному на смерть голубому цветку Новалиса.
— Однако, прежде чем приступить к работе, пойдем вечером в Большой драматический на экспозицию конца романтизма.
Жуканец молол о конце, охваченный самомнением новатора быта, каким он себя почитал, но, по жестокому капризу судьбы, брехня его оказалась пророчеством: выступление Гаэтана перед публикой было последним.
У каждого десятилетия есть своя равнодействующая и есть артист, исполняющий арию большинства. Артист бывает некрупный, бывает великий. Гаэтан был величайший и точный выразитель сердцебиения своей декады. Клич, поднятый Чеховым: «В Москву, в Москву!» и сейчас разрешаемый пожиманием молодежных плеч («взяли бы, дуры, билет и поехали»), когда-то был внятным символом и в МХАТе первом, тогда единственном, волновал сердца.
Гаэтан клич подверг дифференциации и уточнению. Не Москва, конечно, с рестораном Тестова, сандуновскими банями, царь-пушкой и колоколом, а в Москве-символе каждый ждал себе Прекрасную Даму. И вся Россия, от вызванного Чеховым к жизни почтового чиновника до почтеннейших членов религиозно-философского, кто скрывая, кто признаваясь, стали ждать Великую Встречу.
Были такие, что уже, на случай встречи под дождем, понадевали калоши, и, убежденный этим резиново-мануфактурным реализмом ожидания, воскликнул один непрозревший поэт: «Они ее видят, они ее слышат… даже не сомневаясь, точно ли».