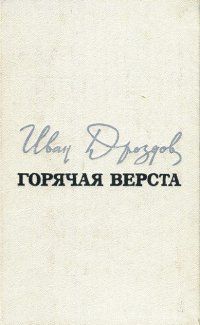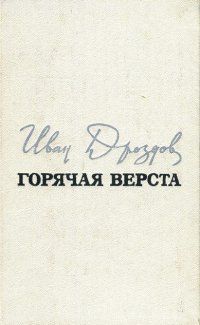Николай Руденко - Ветер в лицо
В самом доме стояла мебель трех разных поколений. В углу щеголял своими столетними цветами на зеленых боках окованный обручевым железом сундук, полученный Марковной в наследство еще от покойной бабушки. Уже и Марковна постарела, а сундук до сих пор напоминал пышную женщину, вырядившуюся в праздничную плахту и новую корсетку.
А в другом углу стоял новый шкаф с зеркальными дверцами, который можно увидеть сейчас почти в каждом доме. У шкафа на отдельном столике сверкает своей полировкой рижский радиоприемник. На стенах было развешано множество фотографий близких и дальних родственников семьи Гордого. А возле окна, на самом почетном месте стояла святыня этого дома — шахматный столик.
Когда Георгий Кузьмич зашел во двор, Марковна с Лидой пропалывали грядки. Настроение у них было, видно, не очень веселое, потому что они почти не разговаривали между собой.
— Ты бы к Валентине заглянул, — сказала Марковна, заметив во дворе Кузьмича. Лида тоже подняла глаза, и Кузьмич обратил внимание на то, что они красные от недавних слез.
— А что с ней? — Тревожно спросил Гордый.
— Заболела.
— Увидела фотографию в журнале. Виктор Сотник, оказывается, живой, только...
Лида не закончила фразу и склонилась над грядкой.
— Виктор Сотник? — Растерянно процедил сквозь зубы Кузьмич. — Как же это может быть?.. Не понимаю.
— И понимать нечего. Закрутила какая-то голову. Вот он и забыл обо всем на свете, — сказала Марковна.
— Где же он?..
— На Магнитке, — ответила Лида, поправляя волосы, падавшие ей на глаза, когда она наклонялась над грядкой.
— Да у него же сынок есть. А он даже не приехал на него взглянуть.
— Об Олеге он, видимо, не знает. Они же только девять дней прожили вместе. А может, и знает, но... Разве не бывает такого? — Не поворачивая головы к мужу, говорила Марковна и еще яростнее набрасывалась на мелкую лебеду между кустиками лука. — Мы только что от нее. И на работу сегодня не выходила. Голова горит. Не ест ничего...
Марковне жалко было не только Валентину, но и Федора. Он, бедный, не знает, как и ходить возле нее. Другой, может, рассердился бы, что она так близко к сердцу принимает. А о только вздыхает и молчит. А когда она хотела порвать фотографию Виктора, что над Олеговой кроватью висит, так он помешал ей. Взял и спрятал среди своих книг. Говорит, что фотография ни в чем не виновата. Они с Лидой в доме убрали, еды наварили. Как только управились, Валентина попросила, чтобы ее одну оставили, — ей самой легче.
Гордый больше ни о чем не расспрашивал. Он вошел в дом, снял рабочую куртку, повесил в сенях на деревянном колышке. Затем переоделся в чистую рубашку и ушел со двора.
Валентина лежала одна. За окнами между тополиными листьями послышался шум неожиданного дождя. Где-то далеко загрохотал гром. В открытые окна пахнуло свежей, влажной прохладой, острым и сладковатым запахом озона, неведомо по каким причинам напомнившем Валентине запах березового сока. Дышать стало легче, острая боль, сверлившая ей виски, постепенно начала отступать. Жестокая обида на человека, которому она глубоко верила, к которому были обращены ее мысли и чувства в лучшие годы молодости, изменилась устойчивой, хорошо осознанной ненавистью. Можно ли нещаднее, бездушнее обокрасть человека, чем он обобрал ее? Наверное, нет, потому что нет ничего ценнее духовной энергии. Ничем и никто не измерит, сколько душевных сил было потрачено за последние десять лет на воспоминания и думы, на бесполезные ожидания и надежды, жившие в сердце, несмотря на сообщения о его смерти.
Ничего, она сейчас не та Валюша Гордая, какой была тогда, когда получила это сообщение. Ее ни на минуту не покинет сознание.
Нет, этого с ней теперь не случится. Ей уже лучше. Она завтра же выйдет на работу и будет работать вне всяких норм, чтобы скорее зарубцевалась жгучая рана. Интересно, как сегодня без нее справилась Лида? Она забыла об этом спросить. Впрочем, не стоит и спрашивать. Она могла полагаться на Лиду.
В комнату вошел Кузьмич. Ничего не говоря, сел возле кровати. Валентина собралась с силами, чтобы приветливой улыбкой успокоить старика. Но улыбка у нее почему-то получилась не столько приветливая, сколько виноватая.
— Что ж, дочка... Своей совести ему не вставишь, — спокойно сказал Гордый. Он сразу понял, как трудно Валентине, но показывать, что ему тоже нелегко, не хотел, потому что это могло только подлить масла в огонь. — Надо, чтобы Федор усыновил Олега. Правда, если родной отец жив, то для суда потребуется его письменное согласие. Таков закон. А делать вид, что нам о Викторе ничего не известно, — это как-то нечестно... И не хочется, чтобы у парня травма оставалась.
Валентина подняла голову. Волосы ее рассыпались по кружевной подушке. На бледном лице под глазами отчетливее, чем обычно, вырисовывались глубокие тени.
— Это сейчас не имеет значения, папа. Парень все равно будет помнить, что он носил другую фамилию. Ему теперь нельзя объяснить, почему не стоит вспоминать папу Виктора. Я предполагаю, что он скоро вернется из лагеря и сразу же спросит: «Кто снял фотографию папы Виктора?..» Что я ему скажу? Слишком много я вложила ему любви к этому... отцу.
Гордый провел узловатыми пальцами по своим негустым русым волосам, в которых не было даже признаков седины.
— А как же быть? Как же ему сказать?
— Пока ничего не надо говорить. Вырастет, поумнеет, тогда скажу.
— Может, и так.
Наступила тишина. Но и Валентина, и Кузьмич понимали, что они думают об одном и том же. Кузьмич встал, подошел к окну.
— Зачем сквозняк устроила?.. Ко всему еще и простудиться хочешь? Я закрою одно окно.
— Не надо. После дождя так легко дышать.
В это время в комнату зашли Солод и Лида. Лида была одета в голубой, полупрозрачный плащ-дождевик и поэтому казалась какой-то светлой, прозрачной, легкой, как утренняя тучка.
Валентина посмотрела на нее — и глаза ее невольно улыбнулись. Лидой сейчас нельзя было не залюбоваться. Валентина частенько завидовала изящной красоте Лидиного лица. Себя она считала некрасивой, всегда преувеличивая некоторые незначительные недостатки, что на самом деле в женщине ее типа не были недостатками. Округлое лицо, бесцветные брови, курносый нос, — все это оживало, светилось настоящей, искренней, душевной красотой, как только Валентина улыбалась, спорила, думала. Валентина видела себя в зеркале только тогда, когда никакой другой мысли у нее не было, кроме мысли о том, что надо быстренько собраться, или еще мысли о том, что она — некрасивая. А такие мысли не делают лицо вдохновенным, не добавляют ему красоты.
Если бы Валентина знала, что только люди с красотой холодной статуи, в лице которой скульптор не сумел передать духовную жизнь, видят себя в зеркале такими, какие они есть, а все остальные люди видят себя в невыгодные для себя минуты, когда внешность их обманывает, потому что не передает их душевной работы, она бы, наверное, была о себе другого мнения.
Что касается Лиды, то она была честной, в меру разумной, скромной женщиной, и значительно меньше раздумывала над жизнью, над собственными поступками, над окружающей действительностью, чем Валентина. Лиду нельзя было назвать ограниченной, как и ее красоту нельзя назвать холодной. Но Лидино лицо в значительно меньшей степени выражало ее духовную жизнь. Поэтому зря Валентина завидовала Лиде. Зря ей в этот момент пришла в голову обидная мысль о том, что если бы она была такой красивой, как подруга, то, наверное, Виктор и не подумал бы ей изменить.
Гордый, понимая, что он не способен сказать дочери ничего утешительного, посидел еще немного, попрощался и вышел, пообещав зайти завтра утром перед работой. Солод и Лида сидели у постели Валентины, не зная, о чем сейчас уместно, а о чем неуместно говорить. Того, что произошло, в разговоре обойти никак нельзя было. Это бы напоминало детскую игру в прятки, когда у того, кому завязывают глаза, остается щель и он всех видит, но вынужден определенное время скрывать это, чтобы не выдать себя преждевременно.
— Что же, Валентина Георгиевна, — начал Солод, — вы женщина сильная. Утешать вас нет необходимости. Я думаю, у вас нет особых причин, чтобы так остро переживать. Этот негодяй того не стоит. Он не стоит ни одной вашей слезы.
— Правда, правда, — поддержала Лида. — Забудь его, Валя. Иван правильно говорит. Он не стоит ни одной твоей слезы. Он не достоин твоей любви. Правда, Валя. Если он смог оттолкнуть такую чистую, благородную душу...
Валентина улыбнулась. На этот раз ее улыбка была почти веселой.
— Но я вижу по твоим глазам, что ты сегодня плакала.
— Ну было немного. Если бы с тобой такое случилось, ты бы тоже, наверное, плакала. Лучше уж похоронить.
Дождь, который было совсем утих, полил с новой силой.
За окнами под его тяжелыми каплями монотонно шелестели листья тополей и дикого винограда. С крыши журчала вода. Где-то рядом, почти одновременно с молнией, ударил гром. Было слышно, как по глубоким лужам плескались колесами грузовые машины. На улице стемнело как-то внезапно, но никому не хотелось зажигать свет. Казалось, что как только вспыхнет свет, вместе с ним в сердце Валентины с новой силой оживут те боли, что постепенно начали угасать.