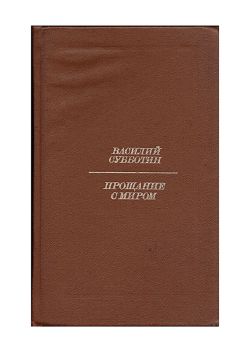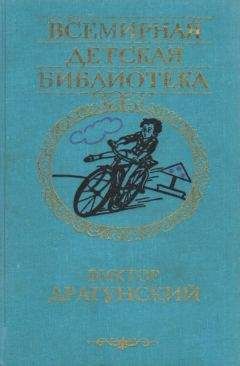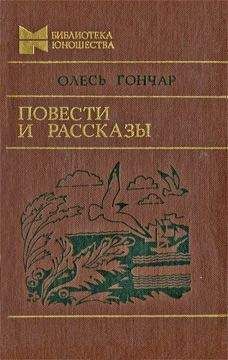Василий Субботин - Прощание с миром
До дверей дошли, а дальше нас не пускают. Привратник задержал. Во-первых, всем надо фотоаппараты сдать, а главное, женщины, которые с нами, им вообще нельзя, у них — руки оголены.
Пришлось нам отдать свои пиджаки тем, у которых платья были без рукавов.
Я тоже свой белый чесучовый отдал, той как раз даме. Мы постояли еще в очереди, прежде чем попасть в собор. Службы не было, но кое-кто из туристов молился. Лишь когда попадаешь внутрь, понимаешь, как огромен собор. Страшно подумать. Вселенная целая. Вдоль стен приткнуты исповедальни, кабинки маленькие, с занавеской бархатной… Когда я из собора вышел, я сразу зачихал. В соборе холодно, а на площади жарко, и я — простудился. Мы на этой площади, где колоннада, долго пробыли. Никак не могли свой автобус найти. Автобусов много, а площадь широкая, так они на ней прямо как в поле. Из собора вышли, а товарищ мне говорит:
— Осторожно. Ты пересекаешь границу папского государства.
Гляжу, под ногами действительно граница. Белая такая черта через всю площадь.
Мы поджидали в автобусе, пока соберутся остальные, обменивались тем, что мы видели: микеланджеловским плачем о Христе, апостолом Петром, его бронзовым, сцелованным пальцем. Наконец все собрались, можно было ехать, и даже мотор уже был включен. Кто-то из пассажиров тогда, глядя на залитую светом солнца площадь, сказал: «Что это там лежит?..»
Я инстинктивно, заранее пугаясь, схватился за карман. Паспорта — не было. Я глянул в окно. Шофер уже выводил машину. Я забарабанил ему, и, когда он открыл дверь, я выскочил.
С тех пор у меня начисто вылетели из головы и коридоры Ватикана, и болота под Римом, и заросшие подсолнухом термы Каракаллы…
Неужели она его нарочно выбросила?
Я чудом только уцелел в этой поездке, больно уж там неосторожно ездят и скорости большие.
Когда я ехал из Гавра, поезд двигался так быстро, что меня колотило головой о стенки. Земля за окнами кружилась, вращалась. Поезд действительно летел через Францию так, что все эти поля за окном, фермы и дороги — кружились, вращались. Будто я сел не в поезд, а на карусель.
Впрочем, где как. По голландским пустынным польдерам машина тащится еле… Но чем дальше на юг, тем хуже. Везде находился свой мсье Жорж. Даже по итальянскому Лазурному побережью возили нас так, что голова запрокидывалась. Дорожка там покруче крымской будет. Висишь над морем, как паучок…
За то время, пока нас возили, нас дважды ударили. Мы обогнули Везувий и подъехали к Неаполю, и тут нас ударили еще раз. Мы едва не полетели в обрыв. И опять стукнувшая нас машина даже не остановилась. Мрачноватый, раздраженный водитель выбегал на дорогу и махал кулаками.
Поездка была большая и интересная. Видели Везувий, видели Помпею. Помпея город как город, только дома без крыш.
Когда-то море еще подступало к самому городу. А теперь до моря километров, наверно, семь… А тогда одни из ворот были морскими. Когда Везувий извергался, часть населения даже успела выехать на лодках через эти ворота. И море теперь довольно далеко от Помпеи. Я не знал, что вода так уходит с земли.
Мы шагали по обыкновеннейшим городским улицам, только очень узким, где в камне были выбиты глубокие колеи, след оставленной жизни… Первое время после извержения вулкана люди, уцелевшие и разбежавшиеся по всем окрестностям, ходили еще на свои пепелища, выносили имущество, проникая через крыши внутрь жилищ.
Но последующие поколения забыли, где находилась Помпея. Свидетельства и описания того, что произошло, сохранились, а где находился город, забыли. Пока случайно один крестьянин при посадке виноградника не наткнулся на угол дома, на стену. Тогда-то кому-то пришло в голову, что это Помпея…
Я ходил по пустым, кое-где уже зарастающим травой улицам. Невозможно смотреть на жизнь, остановившуюся в своем движении. Целые музеи гипсовых слепков людей, маски страдания застигнутых извержением людей. Когда находили засыпанного пеплом человека, эту пустоту заливали жидким гипсом. Тяжело смотреть на людей, зажимающих свои глаза руками… Как все, я заходил в дома, разглядывал город. Женщина в постели… Ребенок с собакой. На столе лежал черный хлеб. Яйца в чаше. Все — черное. Зерно черное…
На одной из улиц поймал я птенчика, запутавшегося в траве молодого воробья. Я его подобрал в траве, среди извлеченных из земли стен. Воробей быстро обжился у меня в кармане.
Обожженные, дырявые бронзовые статуи. Мрамор хорошо сохранился, а бронза прогорела. Мы потом сразу узнавали, какие из них откуда, какие из Геркуланума, какие из Помпеи. Геркуланум — это город ближе к вершине Везувия, он залит был лавой. Эти залитые лавой скульптуры лучше сохранились. Статуи из Помпеи — прожженные, а из Геркуланума целые, будто только что отлитые…
Так с тем попискивающим в кармане воробьем я и ходил по мертвым улицам раскопанного города.
Мы видели Мессину, город, переживший землетрясение. А перед входом в Гибралтар, ночью, когда я вышел на палубу, когда шли по теплому океану вблизи испанских берегов, я увидел Южный Крест— созвездие южного полушария. Несколько ярких звезд над самым горизонтом в форме криво поставленного креста. Я рад, что вышел в этот час на палубу и что я побывал в южном полушарии. Когда проходили мимо острова Сицилия, мы вдруг увидели непонятные нам в небе на облаке вспыхивающие отсветы. Потом разглядели вершину горы и поняли, что это извергается гора. Это была Этна. Она беспрерывно пульсировала. Сначала показывалось пламя, и одновременно с этим стали видны облака, играющие в небе, потом все опадало, и уж затем извергался черный дым. И еще через какой-то промежуток — белый поднимался пар. Так и шло все это в ритме, все три фазы извержения вулкана.
В Стамбуле нам показывали, главным образом, места казни… Нас долго возили вкруг византийской стены, чтобы показать наконец башню, в которой с давних пор казнили преступников, и тот бездонный колодец, куда падает голова казненного. Я заглянул туда, в эту дырку, и увидел подступившую воду моря.
Вечером мы пришли в синераму… Синерама произвела на меня в Париже большое впечатление. Надо сказать, что тогда это была еще новинка. Фильм начался показом Парижа, и мы из зала прямо, в котором сидели, пронеслись по уже знакомым улицам прекрасного города, и еще раз увидели то, что мы видели только что — Нотр-Дам, — но теперь уже мы вблизи увидели его химер. Эйфелеву башню, Сену. И вдруг появились долины. Мы поглядели с высоты вертолета окрестности Парижа, его окружающие холмы. Мы увидели то, чего до этого еще не видели, что вокруг Парижа холмы, и город располагается в долине.
Камера повернулась… И начались другие города. Мы даже не сразу узнавали, что это за города… Дели, Александрия, пирамиды Нила. И Австралия затем. И Антарктида, льды ее! А вот и Нью-Йорк… Мы летели вокруг небоскреба, огибая его, перед самыми окнами… Кружилась голова! Панорамное кино. Синерама! Как это все объемно, ближе даже, чем из окна автобуса! Одним словом, мы посмотрели весь мир, все то, чего мы не видели в этом путешествии. В раме кино мы побывали и там, куда нас не возили. Хорошая штука синерама… И страшные гонки на водных лыжах по озеру, и гонки на машинах. Прекрасный мир. И озера, и его реки. И пустыни, и север, и льды…
Потом мы вышли в холл. Начался перерыв, и мы, все двести или триста советских туристов, вышли в фойе, нас еще ожидало продолжение. Нам еще предстояло увидеть многое.
Я стоял посреди зала, набитого людьми, и как бы еще раз мысленно оценивал увиденное. Открывшийся мир синерамы ошеломил меня… Я выпил какого- то соку, морсу, и снова очутился посреди зала. И неожиданно я как бы очнулся. Я услышал чей-то блеющий голос у себя за спиной. Я не сразу его услышал. Потом я пришел в себя и увидел человека, молодого, крепкого, в двух шагах от себя, и двух наших туристов, растерянных… Он им что-то втолковывал, как ему тут живется. Они, должно быть, не знали, что ему отвечать, и он в первую минуту насел на них.
Но затем один из нас спросил: откуда тот хорошо знает русский. А тот без тени смущения стал громко говорить, рассказывать, как он сбежал за границу, когда был в армии. Он все оглядывался, чтобы видеть, слышат ли его другие.
Когда мы его турнули, он довольно быстро смылся. Мы хотели его побить, но он смылся, исчез быстро со своими обольщениями.
Но я совсем не хотел, не собирался писать о нем… Я — о другом. Я увидел, когда этот человек ворвался в отобранный объективом мир, что режиссер показываемого нам фильма забыл однажды вдруг снять крышечку с объектива.
Луна над Стамбулом была словно баржа, корабль, подвешенный на тросах, она качалась, колыхалась над городом, большая, бесформенная, рыжая. А может, то была голова казненного?
В Босфор мы вошли уже на рассвете, и я опять не спал. Мне опять не спалось. И вдруг мы вышли и открылось Черное море. Уже перед последним поворотом мы почувствовали, что сейчас оно начнется. И действительно, открылось Черное море. Мы вошли в Черное море. Мы были дома. И началась родина, родные, впервые зеленые берега. Впервые, поело голых обрывистых скал, красивые, заросшие лесом берега. Перед тем, пока мы плыли Атлантикой и Средиземным морем, берега были голые. И еще мы увидели, что Черное море и на самом деле черное. А раньше оно казалось нам самым синим на свете морем. Когда в Средиземном море волна плескалась на стенку, казалось, что стенка окрасится, сделается синей. А тут было самое обыкновенное родное Черное море.