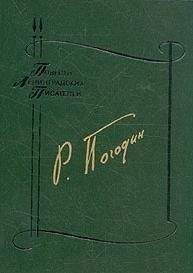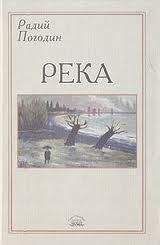Радий Погодин - Я догоню вас на небесах (сборник)
У него было много сестер от разных, они это особо подчеркивали, отцов. Брюнетки, шатенки, блондинки являли собой могучую заросль: идешь по кухне — она у них служила и коридором, и гостиной — и тебе загораживают путь полуодетые баобабы.
И мать у Марата была очень крупная, и отец тоже.
Отец, хоть и большой, но не могучий, работал пожарным. Сестры считали Марата за своего, называли Муриком, а вот к папаше его относились трамвайно. Мол, «пардон, разрешите пройтить…» От всех своих крупных, уже взрослых, сестер Марату перепадали двугривенные, и он брякал ими в кармане — привычка, прямо сказать, дурацкая и весьма неприличная. Когда я хотел его уязвить, я говорил ему: «Ну перестань играть на бильярде, Мурик». Вообще же все называли его просто Дянкин. Сейчас, пожалуй, мало кто и сообразит, что происходила его фамилия от варежек, которые наши бабушки упорно называли дянками. Они не говорили даже «рукавички», — только дянки. Перчатки считали глупостью, чем-то вроде противозачаточного средства.
Перчаток мы, конечно, не носили. Но очень хотели иметь и белый шарф, и шелковый цилиндр, и перчатки с кнопкой. И к этому ко всему — трость. Некоторым повезло: железо мимо них пролетело — они, потея и хихикая, напялили на себя в Германии цилиндры и в таком виде сфотографировались.
Писатель Пе называет такие фотокарточки возвратным тифом онанизма.
Марат Дянкин, широкоплечий, ширококостный, в широких брюках и широком обвислом свитере, брякал двугривенными в своих необъятных карманах, но мы не завидовали ему — мы не знали стеснения в деньгах. У нас была СВАЛКА — КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА!
Завод «Севкабель» вывозил на свалку и свинец, и медь. От него не отставали завод «Коминтерн» и другие заводы, в том числе и Балтийский. От них не отставали все слои населения: рабочий класс, партийцы, спекулянты, интеллигенция, артисты, учащаяся молодежь. Всем было ничего не жаль. Один раз мы нашли два серебряных кубка, связанных шелковой лентой. Не говоря уже о серебряных ложках и вилках. А медные кастюли! Тазы! Фарфор. Фаянс. Книги. Готовальни.
Ларек «Утильсырье» стоял прямо тут, на выходе со свалки. Отечный вонючий утильщик в беспалых перчатках пытался зажилить двугривенный из скупой, назначенной им же самим цены. Мы боролись за справедливость — на ларьке висел прейскурант. И, победив, ликовали.
Прямо со свалки мы шагали в кинотеатр «Маяк», где на детских сеансах стекали горячими ручьями по наклонному полу и божественный страх и божественный смех малышей. Такого уже не будет, ничто уже не ввергнет детей в пучину абсолютной радости.
Дянкиного отца в семье называли Кум Пожарный. Дянкиновы сестры над ним подшучивали: потянувшись за сахаром или за солью, они норовили коснуться его лица грудью, как говорил Дянкин — «соском». Меня так заворожили их нравы, что однажды, придя к Дянкину, я сказал:
— Привет, Кум Пожарный.
По лицу «Кума» прошла судорога. Прохрипев что-то неразборчивое и неприличное, он схватил меня за шиворот и выбросил на лестницу.
— И чтобы ноги твоей больше тут не было!
Дянкиновы сестры, еще дверь не закрылась, за меня заступились: чего же, мол, оскорбительного в слове «кум»?
— Каждый щенок! Каждая сопля! Каждая проститутка! А я человек! — кричал Кум. — Я боцманом плавал! Руки у меня!..
Долго я не приходил к Марату, но однажды, пробегая мимо пожарной части, я услышал свое имя. Кум Пожарный сидел на скамейке под медным колоколом.
— Приходи, — сказал он. — Давай инцидент забудем. Ты понял, не называй меня так. Эти кобылы меня так называют — черт с ними, шлюхи чертовы. Я вообще у них с боку припека. Только Мурик со мной считается. Имя мальчику выдумали — Мурик… Не будь его, я бы да о-го-го! Я бы с Папаниным. Да, черт меня подери, я же ведь все могу. У меня руки… Родила она, понимаешь, мальчика, ну и пришлось, и терплю. В пожарку устроился. Я же его и вынянчил. Здесь-то сутки дежурю, трое суток свободный — халтурю. У меня ж руки — за что ни возьмусь… И за Маратом присматриваю…
Я пришел к ним в тот же день, и никто не подал виду, что имел место инцидент. Пахло ананасом — старшая Дянкинова сестра Нюра, служившая в Таллинне, приехала в отпуск с ананасом и чемоданом подарков.
Она погибла в Таллиннском походе.
Мы с Дянкиным потоптались у моего парадника. Дянкин спросил о Музе и опять профурсеткой ее не назвал — он всех девчонок называл профурсетками. Ну, я сказал, что она не вредная, хоть и интеллигентка. Потом мы пошли к нему. Сестер его дома не было, все — я этого ожидал — были на фронте.
— Экипаж машины боевой, — сказал Дянкин. — Впрочем, в один танк они не запятятся. У них буфера как кастрюли. А задницы… Писем сколько наслали. Тебе приветы передают. А эта Муза — кипяток она будет лить! На каком она этаже живет?
— На четвертом.
— Кипяток, пролетая, остынет.
Мать Дянкина была деловая. О гибели мужа не сказала ни слова — говорила о песке, который не там разгрузили, о пустых бутылках, которые нужно собрать для заполнения их зажигательной смесью. «Мы — истребители танков» — говорила она. Она посещала курсы по истреблению танков.
В тот день, когда мы встретились у моей парадной, Марат Дянкин пришел из деревни, из Вологодской области.
Наверное, он был последним — блокада за ним сомкнулась.
Я забегал к нему часто. Глаза его с каждым днем становились все медленнее, все синее, а губы тоньше и бледнее и как бы наполнялись воском. Крупный, широкий в кости парень усыхал, превращался снова в мальчика — может быть, в духа, может быть, в медленно пульсирующую мысль, похожую на узор лесной паутины с искорками росы на стыках нитей. На работу его не брали.
Дянкин был нездоровый, поэтому, наверно, он так неудержимо быстро худел. Он мерз. Было тепло, а он мерз.
— Зачем ты из деревни ушел? — говорил я ему. — Жил бы с бабушкой. Корова, курицы, баранина…
— А ты чего же в Ленинград приперся, не захотел с бараниной?
Он спрашивал о Музе.
— Играет на рояле?
— Каждый день.
Он крутил головой — может, пытался услышать Музин рояль. С его воображением это было раз плюнуть. Он мог летать, мог стать лучом.
В душе параллельных линий нет, в душе даже лучи пересекаются. И где-то там, на небесах, подчиняясь высшему закону, Дянкин-луч пересечется с Муза-лучом. В точке их пересечения вспыхнет звезда.
Марат заболел по-идиотски. Его болезнь всю нашу школу смутила и сбила с толку. Одна девчонка из нашего класса побила его очень сильно. Он был воспитан в абсолютном уважении к женщине — тут и его мать постаралась, и его многочисленные сестры. Он не мог дать той девчонке сдачи, а нужно было ей немедленно врезать. И ей было бы лучше.
Она исцарапала ему лицо, пропахала ногтями череп. Он ни в чем не был повинен, она сорвала на нем свою злость. Мы едва ее оттащили, а он заливался кровью. Страшно было смотреть. Полосы от ее ногтей остались на его лице для меня навсегда.
Девчонка была созревшая телом, гуляла с ребятами много старше себя, причем с приблатненными. Кто-то из этих ребят сделал фотоколлаж — в порнографическую открытку впечатал ее лицо. Дянкин это художество у нее увидел на парте. Почему она не разорвала карточку, почему на нее пялилась?
— Успокойся, делов-то, — сказал ей Дянкин.
И когда мы ее оттащили от Дянкина, она изловчилась, ударила его ногой. Потом она ничего объяснить не могла. Перед Дянкиным не извинилась. А у него стала раскалываться голова. Может быть, ее ногти и его головная боль не были связаны между собой, но мы увязали, мы увязали крепко. Мы, конечно, не колотили девочек, но эту решено было девочкой не считать.
Ни температуры у Марата, ни кашля — просто раскалывалась голова, его тошнило от этой боли, а доктор ему не верила, говорила, что он симулянт. И только когда он упал без сознания, завуч вызвала «скорую помощь». В тот же день ему продолбили череп за ухом, потому что у него был менингит. Еще денек — и лежать бы ему в узком ящике, обитом саржей.
В наш класс он уже не пришел. После больницы его определили в школу взрослых, где вероятность случайных толчков и ударов портфелем по голове несколько меньшая, к тому же взрослые станут его беречь — так думали доктора и, в общем, правильно думали. Марат был доволен. Его действительно берегли, списывали у него домашние задания, угощали яблоками, соевыми батончиками и карамелью.
Марат был счастлив тем, что ему не грозили ежедневные встречи с той девочкой, которую мы все уже девочкой не считали, но только кобылой.
Экзерсисы на тему «Дянкин Марат — больной» я проигрываю, чтобы коснуться его упорного поросячьего идиотизма — я тогда так считал. На свалке Марат набирал кроме меди и свинца большое количество ненужных вещей: тумблеры, верньеры, разноцветные выпуклые стеклышки, эбонитовые платы, конденсаторы и фиговины неизвестного нам назначения — все это в изобилии поставлял на свалку завод «Коминтерн».