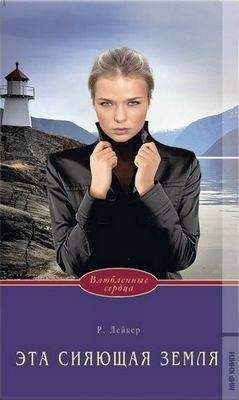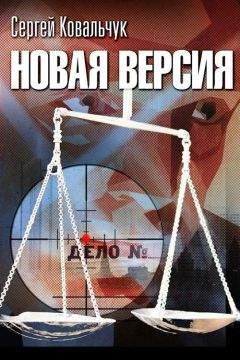Иван Кудинов - Сосны, освещенные солнцем
— Мне иногда кажется, что я разучился делать даже то, что умел. И чем дальше, тем хуже…
— Ты болен, — повторил Гине. — Потому и не можешь здраво смотреть на вещи.
Шишкин горестно усмехнулся, все еще глядя на свой незадачливый рисунок, и промолчал.
— И потом это же естественно, — добавил Гине. — У каждого человека в свое время ломается голос…
Шишкину не хотелось спорить. И оставаться в классе, чтобы вызывать своим видом сострадание друзей, тоже не хотелось. Он изорвал второй рисунок и молча вышел, спустился по лестнице. Тяжелая дубовая дверь хлопнула за спиной. Сырой воздух перехватил горло, и Шишкин долго, с усилием кашлял. «Черт возьми! — подумал он. — Человек должен затрачивать долгие годы, чтобы понять в конце концов, чего он стоит и на что способен. Я никогда не стану художником. Это исключено. Значит, все эти годы, все, что я делал, и все, чему учили меня, впустую?» Он долго стоял у гранитного парапета, глядя на равнодушных сфинксов, удивляясь странному совпадению: сфинксов поставили здесь в год его рождения. Как будто это могло заключать в себе некую загадочную связь. Потом поднял воротник и побрел вдоль Невы по набережной, мимо Румянцевского сквера с раскидистыми липами и высоким серым обелиском, мимо песчано-желтых университетских зданий. С грохотом катили по мостовой экипажи, лошади шумно отфыркивались, из-под копыт летели по сторонам ошметки грязи. Шишкин останавливался по временам, отворачиваясь от прохожих. Кашель душил его, раздирая грудь. Знобило. Ему хотелось оказаться в родном городке, на Каме, в родительском доме, в окружении добрых и близких людей, хотелось тепла и ласки, простого человеческого участия… Он с обидой сейчас вспомнил, что никто его не позвал и не попытался остановить, когда он уходил из класса, никому до него не было дела. Что ж, тем лучше! Он больше не вернется туда, не поднимется по крутой лестнице, украшенной по бокам скульптурами древних богов, не войдет в класс и никогда больше не возьмет в руки кисть, не прикоснется к холсту… Сегодня же напишет родителям и все объяснит. Они поймут его, должны понять. «А через несколько лет стану исправным купцом», — мелькнула едкая, как будто чужая, посторонняя мысль.
* * *После болезни, длившейся почти три недели, Шишкин впервые вышел из дома и поразился перемене, происшедшей за это время в природе. Чистый снег лежал на тротуарах, на деревьях и крышах, пушистыми козырьками свисал с фронтонов домов. Шишкин был еще слаб, голова кружилась от свежего холодного воздуха. Нева встала, синеватый лед неровно поблескивал на солнце. Голоса и шаги прохожих, отчетливо, ясно звучали на морозе. Гине шел рядом, поглядывая на друга.
— Ничего, теперь уже совсем неплохо. Что там у вас нового?
— Все старенькое, — усмехнулся Гине, слегка придерживая Шишкина за локоть. — Они решили предъявить «москвичам» повышенные требования. Полагают, видно, что большинство из нас с треском провалится на первом же экзамене.
Они — это профессора Академии.
Шишкин шел улыбаясь, глубоко дыша, чувствуя в освободившемся от недуга теле необыкновенную, непривычную легкость.
— Им-то что за интерес проваливать нас? — спросил он и, наклонившись, зачерпнул горсть снега, поднес к лицу.
— Ты что? — испугался Гине.
— Хорошо пахнет, — сказал Шишкин. — Знаешь, о чем я вспомнил: когда я надумал ехать учиться, мать плакала и умоляла не делать глупостей, а Дмитрий Иванович, зять, предлагал мне даже лавку… Я отказался. Вечером мать зашла в мою комнату и опять уговаривала, упрашивала не ездить, а взяться за ум, заняться каким-нибудь доходным делом. И спрашивала: то ли тебе не хочется, Ваня, быть уважаемым, богатым человеком? Или ты хочешь стать маляром? А я сказал: не маляром, а художником. — Он замолчал и шел, задумчиво улыбаясь. — Они и до сих пор не очень-то верят в мою затею, — сказал он с грустью. — Пишут ласковые письма, зовут домой. Что я им могу сказать?’
— Да, брат, — вздохнул Гине, — возврата нет. Мы сами избрали себе дорогу, нам по ней и идти до конца.
— До какого конца? Нет, если я пойму, что из меня получается маляр, не больше, я все брошу и вернусь в Елабугу. Лучше уж и вправду завести лавку…
Говорил он об этом скорее для себя и будто прислушивался к себе, хотел убедиться, что не зря настоял на своем, а становиться маляром, если быть откровенным, он вовсе не собирается, тем более — лавочником.
— Ну, а еще что? — спросил он.
— Натурщики осточертели, — пожаловался Гине. — Не люблю мужское тело, — смотреть противно, а не только что рисовать. Эх, сейчас бы в Сокольники, на Лосиный остров!
— А может, в Булонский лес? — поддел его Шишкин, припомнив старый спор между ними. Шишкину казались смешными, ничтожными сетования и жалобы друга. После болезни он как-то острее воспринимал окружающее, и все казалось ему значительным, исполненным большого глубокого смысла — и застывшая, неподвижная Нева, и свежий рыхлый снег на улицах, и мимолетные взгляды незнакомых женщин, спешащих куда-то по своим делам, и цокот конских копыт по стылым мостовым… Ему было жаль немного, что вот это прекрасное лицо улыбнувшейся молодой женщины, возможно, он уже никогда не увидит. Хотелось пойти следом, догнать ее и что-нибудь сказать такое, чтобы она снова улыбнулась. «Безрассудство», — подумал он, не замечая того, что и сам идет улыбаясь.
Они поднялись в мастерскую, и Шишкин с удивлением и недовольством разглядывал свои осенние наброски, рисунки, и у него было такое чувство, будто сделано все это не его рукой. Он был молчалив и сосредоточен. И думал: нельзя повторяться, невозможно быть похожим на себя вчерашнего. В свободные дни, соблазнив кого-нибудь из друзей, он уезжал за город или забирался в глубину какого-нибудь парка и жадно, с упоением рисовал.
Силы вернулись к нему, он окреп и как будто еще больше раздался в плечах; молодость и могучий шишкинский организм взяли свое.
Как никогда он был спокоен и уверен. Он представил к экзаменам несколько рисунков, пейзажей, и один из них, написанный под Сестрорецком, пришелся по душе его учителю профессору Воробьеву. Шишкину была присуждена малая серебряная медаль, первая в его жизни награда.
Вечером зашел Гине и с порога сообщил:
— Слыхал? Медали будут вручать на акте. Велено быть непременно во фраке и в белых перчатках.
— Еще что?
— Ну и уметь, я полагаю, изящно раскланиваться, — не без иронии ответил Гине.
— Вот как! Значит, фрак и белые перчатки? Непременно белые? — Шишкин хохотал от души, вытягивая перед собой огромные, сильные ладони и шевеля пальцами, словно перчатки были уже на руках и от этого пальцам тесно и неудобно. Вдруг он перестал смеяться и, сердито сдвинув густые лохматые брови, сказал:
— Покорнейше благодарю! Ни на какой акт я не пойду. Фрака у меня нет. И рисую я тоже без перчаток. Почему же награду за свою работу я должен получать в перчатках, да еще в белых? — Его почему-то больше всего возмущало и коробило именно это — «белые перчатки».
— Ну уж это, батенька, ты привередничаешь…
— Понимай как хочешь, — твердо сказал Шишкин. — Не пойду.
* * *Масленица, как всегда, проходила в Петербурге шумно и весело, со всякими потешными затеями, кулачными боями, лихими скачками, запахом талого снега и горячих блинов. Шишкин, Гине и Ознобишин отправились пешком на Адмиралтейскую площадь, где обычно разворачивались главные праздничные события. Люду стекалось туда превеликое множество. Подкатывали богатые экипажи, и господа сановного вида важно выступали вперед. Дамы в мехах. Треуголки, кокарды… И белые перчатки. Белые, белые! Сколько тупого безразличия в надменных, холеных лицах, сколько презрения!
— Я здесь не хочу оставаться, — с присущей ему грубоватой прямотой говорил Шишкин. — Тошнит, ей-богу!
— Ты во всем ищешь смысл, — упрекал его Гине.
— И разумность, — добавил Шишкин. — А ты?
— Я тоже ищу, но там, где он может быть.
— То-то и горе: смысл должен быть во всем, а его что-то мало видно. Такая все чушь и пошлость. Порою кажется — Петербург переполнен этой пошлостью.
— Ты преувеличиваешь.
— Может быть.
Они частенько схватывались и спорили, хотя это не мешало им любить и уважать друг друга.
— Ко всему можно привыкнуть, — говорил Гине.
Тут даже и Ознобишин не удержался: зачем же привыкать? Но Гине тоже умел постоять за себя:
— Да хотя бы затем, чтобы не отвлекаться от главного, не размениваться на мелочи.
Сквозь рваные, быстро несущиеся облака проглянуло солнце, озарив золотую шапку Исаакия. Собор был велик, внушителен, хотя строительство его еще не было завершено. Гине знал: Шишкину собор не нравится. Пышность и помпезность, почти сорок лет человеческого труда, несоразмерность и та же холодная надменность, говорил Шишкин, и нет в нем ничего русского, национального.