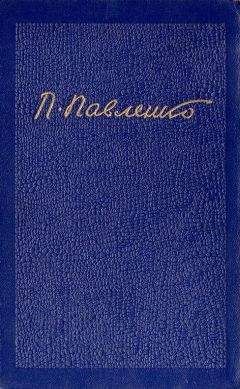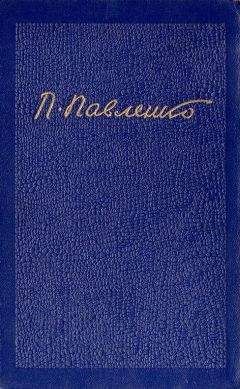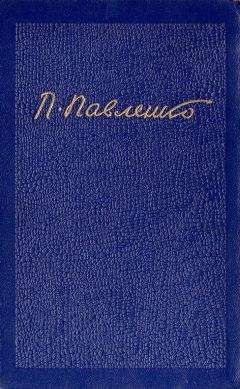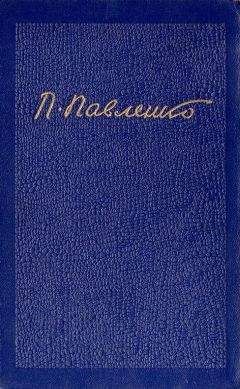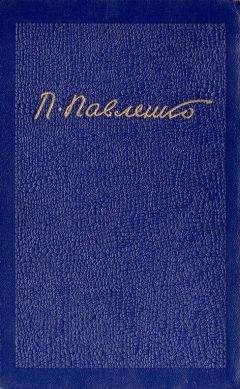Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 1
Все сразу получило в городе новый смысл. У застав суетно развернулись работы по возведению укреплений. Мешки с песком и бочки с булыжником, видневшиеся повсюду, производили впечатление, что в городе начат всеобщий ремонт. Леса вокруг строящегося здания Парижской оперы немедленно были сняты и посланы в дело. Мостовые в предместьях растеряли все свои устья, их гранитный плитняк и булыжник исчезли в чревах заградительных валов. На площади Карусель продолжалась ярмарка пряников. Клоуны бродячих цирков визжали и кувыркались, зазывая посетителей:
— Лошадь-саламандра! Лошадь-прыгун! Лошадь-апортер! Трейсированная лошадь-танцор. Заходите!
— Удары грома, молния с большой бурей или так называемым ветром. Ураган, причем вся сцена покроется облаками и сделается темнота наподобие ночи. В это время будут летать птицы, подобные живым. Заходите!
— Антиподы! Шаривари! Зубной акт гимнаста Гро!
В деревянном бараке «Просветительной панорамы» Гарибальди въезжал в Дижон. На полотняных стенах тира было намалевано пестрыми красками: «Прочь жалость!» «Париж требует, чтобы пять миллиардов…»
Человек, продававший мозольную жидкость, нес плакат на конце трости, поднятой к плечу: «Я — старик. Я работал».
Одутловатая женщина с воспаленными кроличьими глазами держала на груди картон с надписью: «Мозолимиор!»
Какой-то аферист установил телескоп и за полфранка предлагал любоваться монмартрскими батареями. Возвращаясь с кладбища, похоронные катафалки останавливались возле ларьков и тиров, образуя пышные биржевые стоянки. В узких проходах между каруселями, цирками, тирами, шатрами гадальщиц и ларьками торговцев шипели жаровни. На них, в громадных кастрюлях, дымя подгоревшим салом, прыгали ломтики картофеля.
Со звонким треском петрушечник вытряхнул из длинного чехла двадцать палок, из которых быстро сложил балаган, вскинул на него легкие драпировки, поднял вышитый цветной портал[13] и крикнул:
— Вот парижанин, защищающий свое знамя!
Толпа от картофеля и телескопа бросилась к нему.
В толпе парижан мелькали фигуры приезжих провинциалов. Крестьяне с заплечными вещевыми мешками, насупив брови и хмурясь, подолгу катались на каруселях или молча стояли возле петрушечников. Стыдясь аплодировать трейсированным лошадям, они — в знак одобрения — били башмаками о деревянный настил цирков. Забыв о времени или спутав его с пространством, они часами простаивали на одном месте, слушая оратора и глядя прищуренными глазами, прикрыв их от солнца ладонью, на широко развернувшийся город.
Равэ заметил русского артиста у форганга[14] цирка Ронц. Левченко устало рассматривал заполняющиеся народом скамьи. На нем был бархатный пиджак поверх голубого трико. Его ноги взволнованно вздрагивали.
— Ну что ж, Равэ, я был прав, — сказал он, когда столяр благополучно пробрался к нему сквозь толпу.
— Вот я и пришел выяснить, были ли правы вы, — ответил Равэ.
— Завтра форт Мон-Валерьен начнет бомбардировку Курбевуа. Тьер накопил силы. Мне представляется печальной судьба восстания, печальной.
— Ерунда! Вы забываете Францию. Последнее слово в этом скандале — за ней.
— Равэ, сегодня пала Коммуна в Марселе, возьмите же в руки разум и сделайте все должные выводы.
Равэ схватил тонкий черный шест, чтобы удержаться от головокружения, но это был гибкий шамбарьер[15] наездника, и он едва не упал лицом в песок и опилки.
Музыка, окатив цирк ушатом верещащих звуков, разъединила их речь. Форганг наотмашь раскрылся, чтобы пропустить пегую лошадь. Левченко сбросил пиджак, нагнал ее длинным прыжком, прокричав: «Печальна судьба!..» Равэ вышел из цирка, не дожидаясь конца этого номера. Пройдя площадь, он вспомнил, что не спросил даже, где им встретиться и каков план жизни русского. Но убеждение, что они обязательно встретятся завтра, его успокоило.
День после встречи на площади пошел как попало. Он не коснулся Равэ ни одним своим жестом, будто, застряв в цирке, так и не возвратился на улицы. Потом настал вечер, время проходило, как погода, в приметах, в предчувствиях, он не запомнил — в каких. Сегодняшний день для него кончился в цирке, и все, что наступило позднее, было уже материалом на завтра. Он пошел и встал в очередь перед лавкой, а вернувшись, глухо заснул между двумя разминувшимися мыслями. Но спал он тревожно и короткими сроками, как механизм часов между ударами маятника. Новости продолжали входить в него даже во сне. Он знал: отряды Коммуны отошли к воротам Майо. Ничего не купив, вернулась из лавки жена. Он знал — дискуссия с Левченко приобретала характер оперативного действия. Завтрашний день полностью формулировался, хотя продолжалась ночь страшной, неисчерпываемой глубины. Он тотчас вышел из дому, сказав, что не знает, когда вернется.
К двум часам дня город, порознь и толпами, примчался к больнице Божон. Трупы убитых и умерших от ран в утреннем сражении у ворот Майо еще пахли жизнью и порохом. Катафалки, запряженные шестью лошадьми каждый, прибыли к больнице на-рысях, как зарядные ящики. Медлить было некогда. На глазах у всех тела были наспех уложены в гробы. Тридцать пять гробов на катафалк. Горнисты играли боевые сигналы, их торопливый ритм ускорял и без того страшную суетню возле гробов. В четыре приехал Делеклюз с пятью членами Коммуны и заторопил еще более. Наконец отряд парижских мстителей двинулся в сторону больших бульваров, за отрядом тронулись катафалки. Лошади приплясывали, как на параде, гробы скрипели и шевелились на своем шатком ложе. Десятки рук поддерживали эти хрупкие пирамиды. Горнисты трубили торжественную тревогу, сзывая город.
В толчее медленно движущихся улиц процессия скоро обрела строгую и внушительную неторопливость. Она подвигалась теперь рассеянным шагом, как толпа заговорившихся собеседников, идущих лишь по инерции. Созванный со всех сторон город зажал ее и держал не выпуская, он как бы требовал, чтобы она дала все, что могла, утопила все чувства, распахнутые для мести, отчаяния и надежд. Временами шум разговоров и выкриком заглушал музыку. Никто не знал в точности, кого сегодня хоронят, да никто и не интересовался. Еще не осознавая, все чувствовали, что дело не в именах. Каждый мог оплакивать сегодня своего мертвеца — наивный идеализм, беспринципность, легкомыслие или трусость. Равэ твердо держал свою руку на чьем-то безыменном гробе и время от времени постукивал пальцем по его сырой, недавно обструганной стенке.
Улицы встречали процессию воплями, останавливающими лошадей. Частые остановки утомляли, медленность ходьбы раздражала, тяжесть, усталость ходили по телу. А улицы сталкивались с улицами, и на встречных площадях они затевали перепалку, пока одна не отступала, вбирая свои толпы в ворота домов или выталкивая их в переулки. Вскорости процессия была разбита на звенья и катафалки оттерты один от другого. Между ними вклинились пустые фиакры и фуры с бочонками пива, коляски с какими-то пассажирами и кареты монахов. Казалось, каждый экипаж имел что доставить для погребения им кладбище и вот, воспользовавшись случаем торжественного погребального парада, везет свой живой или мертвый прах. Три артиллерийских капитана, Ла-Марсельез, Рош и Мартен, своими двенадцатью пушками задержавшие на рассвете атаку версальцев, стоя ехали на телеге, позади Делеклюза, как присужденные к гильотине. Они только что выбрались из окопов проводить ребят до могилы. Монтерэ, который всеми ими тремя командовал в утреннем деле, на каждом перекрестке произносил речь. Он был опутан красными лентами и шарфами, как призовой столб. Капитаны кричали: «К оружию!» — и махали руками. С лиц их не переставая катился пот, как на рассвете, когда от жара раскаленных пушечных жерл они поскидали рубахи и командовали огнем, похожие на кочегаров. У кладбища Пер-Лашез процессию остановил митинг. Катафалки выбрались в сторонку, кучера повесили мешки на морды лошадей и, присев на корточки у своих колесниц, закурили трубки.
Маляр Растуль, насвистывая веселую песню, выводил красною краской на бортах катафалков: «Прочь жалость!.. Прочь жалость!.. Прочь жалость!»
Лицо маляра было измазано этой же краской и казалось израненным.
Над городом затевался вечер.
Кто не лежал на мокрой земле, вшивый, с винтовкой, примерзающей к пальцам, с глазами, которые не открывались от голода, и в то же время не думал, что мир прекрасен, тот никогда не жил и ничего не знает о жизни.
Как много было света и цветов в этот март, стремглав пробежавший по городу, будто он давно уже ждал за стенами, чтобы его впустили в захиревший Париж. Как хороши, как просты были утра, когда невзошедшее солнце, протянув из-за горизонта несколько острейших лучей, скребло ими небо до полного блеска. Тогда легкий рваный туман валился вниз шелухой или стружками с неба. С улиц туман потом убирали метлами.