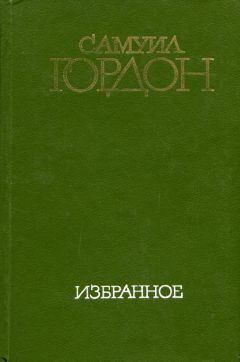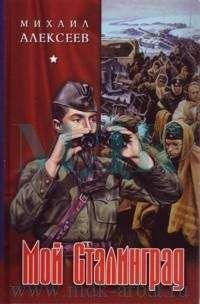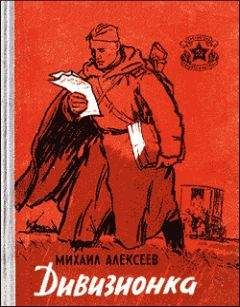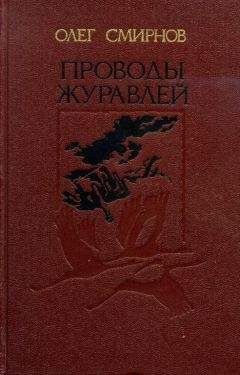Михаил Алексеев - Наследники
— Каюк твоему одру, дядя. Давай поможем столкнуть в кювет! — охотно и даже как бы с радостью изрек молоденький чумазый водитель, оскалив в широчайшей улыбке ослепительно белые, ровные зубы.
— Пошел ты… знаешь куда! — озлился Лавра и вдруг страшно выругался — это было первое матерное слово, которое мы услышали от Еремина. — Катись своей дорогой, а меня не учи!
Шоферы удалились. Андрей не вытерпел, спросил:
— Ну что, Лавра, все, отъездились? Загорать будем?
— Маленько позагораем, товарищ старший лейтенант…
Лавра сбросил с себя гимнастерку, засучил рукава нательной рубахи и начал разбирать мотор.
Мы лагерем расположились неподалеку и стали терпеливо ждать, но без особой надежды на благополучный исход ереминской затеи. Лавра между тем трудился, посапывал и даже временами мурлыкал себе под нос подобие песенки. Через час он извлек из темных недр мотора покалеченный поршень и бросил его в кузов.
— Вот теперь уж действительно все, — потерянно обронил Дубицкий, а Лавра спустя еще час крикнул мне:
— Товарищ капитан, едемте. Садитесь!
Мы думали, что он смеется. Но нет, видим — Лавра уже в кабине, мотор заворчал, с прихлебом каким-то, но заворчал.
Не веря еще ни своим глазам, ни ушам, ни Лавре, мы, однако, вскарабкались в кузов.
Со стоном, надрывным кашлем, с шипением и хлюпаньем полуторка преодолела горный перевал на трех поршнях и доставила нас до политотдела дивизии. Обеспокоенный долгой нашей задержкой, Денисов сказал:
— Придется заменить вашу «Антилопу». Сейчас много трофейных машин.
Никто на это ничего не ответил. Лавра потемнел, как бы вдруг обуглился. Мы не знали в ту пору, что, уезжая на фронт, он дал слово председателю колхоза вернуть полуторку после войны в целости и сохранности. Только в тот день, к вечеру, малость успокоившись, он сообщил об этом мне и еще добавил:
— А вам рази не жалко ее менять, товарищ капитан?
— Жалко, Лаврентий Никифорович, но что поделаешь: отжила она, видать, свой век.
— Не отжила. Поправлю я ее, лучше новой будет. Довезу я вас… до самой победы довезу! Вот увидите!
И довез.
А в конце мая 1945 года полуторка, латаная и перелатанная, поцарапанная там и сям осколками бомб, снарядов и мин, важно стояла на платформе эшелона на большой товарной станции; колеса ее были наглухо закреплены деревянными клиньями, кузов с грех сторон прикручен проволокой. А в кабине, счастливый и немножко грустный, сидел Лавра. Он махал нам большой своей темной ладонью и кричал хрипло перехваченным волнением голосом:
— До свиданья, ребята!.. Приезжайте ко мне в гости в Казахстан. На вокзал прикачу на нашей полуторке!
Схитнувся…
Был у дивизионки хороший военкор — командир стрелкового батальона майор Коновалов. В отличие от других корреспондентов он в своих заметках помимо описания подвигов солдат и офицеров делал разбор тактических замыслов командира в проведении той или иной боевой операции, что во фронтовых условиях считалось чрезвычайно важным: человек делился своим опытом.
Перед самым концом войны Коновалова ранило, но не тяжело. Его лечили при дивизии, в медсанбате, а когда майор выздоровел, война уже закончилась. Ему предоставили месячный отпуск, но он не поехал домой, а остался в батальоне, в живописном уголке Чехословакии, где в ту пору квартировала и редакция. И неудивительно, что Коновалов стал нашим постоянным гостем, хоть и не писал больше статей: бои отгремели, а другой темы майор, по-видимому, еще не обрел. Правда, он делал какие-то туманные намеки, из которых можно было заключить, что со временем дивизионка получит от своего старого военкора нечто совершенно уж удивительное. Но покамест Коновалов ничего не приносил, только почему-то усиленно обхаживал Андрея Дубицкого, дарил ему всякие трофейные штучки, старательно расхваливал Андрюхины стихи, время от времени появлявшиеся в нашей газете, и только однажды вдруг пригласил его к себе в гости. Андрей все отказывался, ссылаясь на занятость и другие разные причины: Дубицкий вообще трудно сходился с людьми, а тут, наверное, еще и смекнул, что тянет его к себе Коновалов неспроста. «Уж не поэму ли сочинил? — подумал Андрей с тревогой, вспомнив печальный случай с Алешей Лавриненко. — Ну его к чертям собачьим, не пойду! Влипнешь опять в какую-нибудь душещипательную историю. Знаю я этих сочинителей!»
— Простите, товарищ майор, дела! В другой раз как-нибудь, — сказал он Коновалову.
— Очень жаль. А я пивка припас…
— Неужели? Пльзенского?
— Угу, — притворно вяло ответил Коновалов. — Правда, немного. Один только бочоночек ординарец мой, Охрименко, где-то раздобыл. Ну, так заходи как-нибудь.
— Что ж… пожалуй… Да вы посидите, товарищ майор, я сейчас. Вот только смакетирую следующий номер… — Дубицкий вышел в другую комнату, посидел там минут десять для виду, ни к какой работе не притрагиваясь. Вернулся оживленный, подобревший. — Теперь все в порядке. Можем идти, товарищ майор!
Возвратился он от Коновалова к вечеру злой как черт. На недоуменные наши вопросы не отвечал, только выругался:
— Чтоб он сдох со своим пивом!
Зная тяжелый характер своего фронтового побратима, мы не стали приставать к нему с дальнейшими расспросами, полагая, что время само прояснит обстановку.
В течение нескольких дней Дубицкий пребывал в мрачном состоянии духа. Наконец признался:
— А пиво действительно отличное у этого разбойника с большой дороги.
— Так в чем же дело? Ступай к Коновалову. Он трижды звонил, разыскивал тебя, — сказал Юра Кузес, втайне надеясь, не прихватит ли Андрюха и его с собой: в последнее время Юра и Андрей заметно сдружились.
— Нет уж, ступай сам. Туда я больше не ходок!! Этот сказитель-исказитель меня в гроб загонит…
Прошло еще два дня. Андрей все вздыхал, морщился, а потом вдруг объявил:
— Не могу больше. До смерти хочется пивка. Авось не будет читать. Есть же у него совесть!
Майор Коновалов встретил его сияющей улыбкой, сразу же повел к столу, как и полагалось гостеприимному хозяину.
— Очень хорошо сделал, что пришел. А я тут, брат, новую былину сотвориши. Вот сейчас за кружкой пива и почитаем!
«Так и знал! — с затосковавшим сердцем подумал Дубицкий, нехотя присаживаясь к столу. — Черти тебя понесли, дурака. Пивка захотел! Ну так и не ной, сиди, слушай и мучайся!»
Охрименко, обняв пузатый бочонок, наполнял кружки. Хозяин вышел куда-то и тотчас же вернулся с толстенной тетрадью в клеенчатом переплете. Андрей покосился на тетрадь, и ему стало совсем грустно — так, должно быть, чувствует себя глупый голубь, попавший в ловко расставленные силки. Он без всякого энтузиазма отпил глоток пива, судорожно вздохнул, безвольно приготовившись к ужасающе долгим и утомительным часам слушания Коновалова. Тот раскрыл тетрадь, сделал значительную паузу и, слегка прижмурившись, начал уныло-усыпляющим, немного шепелявым голосом:
Солнце красное
С высот свéтилось,
Тучки серые
Понахмурились.
Читал он со странными ударениями, тихо и певуче, как уж водится у сказителей. Лик сиял благолепием и мудростью.
Ой ты гой еси,
Пионер Иванушка,
Партизанский сын Митрофанович!
Про тебя-то свою песню
Сложили мы…
Дубицкий не слушал. Он сокрушенно поглядывал на недопитую кружку, не переставая в мыслях проклинать себя за то, что пришел сюда.
Коновалов вдруг прервал чтение и сообщил:
— В редакции армейской газеты один фрукт предложил мне бросить эту рукопись в корзину…
«Похоже, умная голова у того фрукта», — подумал Андрей, а вслух спросил, пытаясь, видимо, скрыть свое полнейшее равнодушие к этому факту:
— Ну и что же?
— Так и сказал, прохвост: брось, говорит, в корзину… Нет, думаю, шалишь. Я брошу, а ты, подлец, подымешь. Пускай, говорю, уж лучше она у меня в портфеле полежит… Охрименко, ты помнишь фамилию того голубчика? Я тебе говорил…
— Щось не помню. Мабуть, Зильберов або Петров… похоже на те…
— Ну и похоже! — осерчал майор.
— А вы читайте, — нетерпеливо попросил Дубицкий, хорошо зная, что ему не миновать слушания былины до конца: так лучше уж не терять времени!
Коновалов вновь склонился над тетрадью. Андрей с ужасом заметил, что прочитано всего лишь десять страниц, а осталось не меньше семидесяти. Это открытие повергло его в еще большее уныние. Но деваться было некуда.
— Значит, родился наш пионер, — констатировал глубокомысленно Коновалов. — Теперь пойдем дальше…
Как на площади
Да на колхозной
Народ собирается,
Все-то люд честной
Артели «Пролетарской».
Собиралися
Да любовалися
На Ванюшу дόбра молодца,
Пионера — сына партизанского…
«Бред собачий! — опять подумал Андрей, взглянув на углубившегося в чтение Коновалова почти с откровенной ненавистью. — Вот так и погибают хорошие люди. Ведь отличный же был командир!»