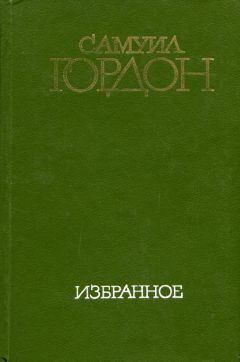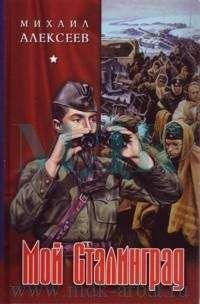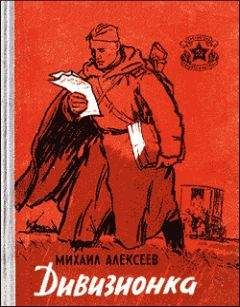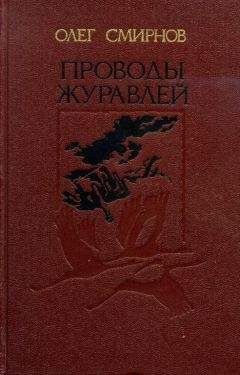Михаил Алексеев - Наследники
— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Но с той поры офицеры и солдаты еще больше полюбили свою газету.
Месяц спустя, проезжая мимо того места, где подорвалась наша машина, я увидел рядом с могильным холмиком, под которым лежал Валька Тихвинский, еще один точно такой же холмик. На деревянной пирамидке, увенчанной красной звездой, я прочел:
Рядовой Вавильченко А. И.
1924–1944 гг.
погиб
при разминировании дороги
Это была та самая дорога, на которой мы несколько суток кряду ковырялись в грязи, собирая шрифты. Плечи мои зябко передернулись, и я бегом вернулся в свою машину. Захотелось поскорее убраться с того места, где совсем недавно дважды прогулялась смерть. Только теперь я понял, почему был молчалив, сосредоточен Лавра и почему в его добрых глазах горели напряженные огоньки.
Лавра
В далеком степном колхозе жила-была единственная машина-полуторка, которую артель заполучила лишь на десятом году со дня своей организации и потому очень гордилась ею. Когда-то за машиной прямо на завод был командирован колхозный кузнец Лаврентий Никифорович Еремин: еще в гражданскую войну ему довелось возить командарма на трескучем драндулете, гордо именуемом автомобилем. На заводе Еремину предоставили полную свободу выбора: новенькие грузовики, только что сошедшие с конвейера, выстроились во дворе и, чистенькие, лупоглазые, весело подмигивали малость растерявшемуся мужичище сверкающими фарами, как бы подсмеивались над ним. Машины были совершенно одинаковы, решительно ничем не отличались одна от другой, так что Лаврентий Никифорович мог взять любую и спокойно катить на погрузочную станцию. Но он не спешил. И только когда обошел весь ряд и заглянул каждой под капот и стальное брюхо, посидел во всех кабинах и покрутил все баранки, опробовал все рычаги передач, проверил исправность замыкающих крючков во всех кузовах, — только тогда остановил свой выбор на одной, неизвестно какой уж красой-статью покорившей его воображение.
Полуторка оказалась и вправду очень удачной — выносливой, торопкой в беге и неприхотливой, как добрая кобылка киргизской породы. Председатель, бывало, не нарадуется своей покупке.
— Вот бы, Лаврентий Никифорович, нам еще парочку таких, а? — говорил он, похлопывая по радиатору, как по лошадиному крупу, и вожделенно причмокивая губами. — Далече б мы укатили, а?
— Далече, Митрофан Сидорович, — соглашался Еремин, улыбаясь во весь свой великолепный рот.
А в декабре сорок первого полуторку с тремя лучшими в колхозе конями мобилизовали и направили в один степной город во вновь формирующуюся стрелковую дивизию.
Лаврентий Никифорович был мобилизован вместе с машиной и попал сначала в автороту, а оттуда — в дивизионную газету. Из всех шоферов автороты редактору Шуренкову почему-то приглянулся именно Еремин. Может быть, потому, что он был уже немолод, а редактор ценил людей степенных и солидных.
Тихий и застенчивый по натуре, капитан Шуренков не решился попросить у командования дивизии машину повместительнее, и Еремин прикатил в дивизионку на своей полуторке. Прикатил, и чуть ли уж не через неделю все вдруг поняли, что звать его надобно просто Лаврой и что будет он в редакции, может быть, самой значительной личностью.
Дивизионка — хозяйство весьма своеобразное, над штатным его расписанием, видать, никто особенно не ломал головы. Например, редакции полагался по штату радиоприемник, но не полагалось иметь радиста; полагалась печатная машина, но не полагался движок, который мог бы приводить эту машину в действие; нужен был человек для охраны в ночное время, но его штатом не предусмотрели, так же, как не были предусмотрены повар, почтальон, ординарец, связной, словно бы там, в том высоком учреждении, где определялся штат дивизионки, наперед знали, что во всех соединениях непременно должен быть такой Лаврентий Никифорович Еремин, который один может с успехом исполнить все эти многочисленные обязанности, то есть быть одновременно и шофером, и радистом, и движком для печатной машины — колесо этой машины вращалось ногой Лавры, — и часовым, и ординарцем, и поваром, и почтальоном, и связным.
Самым удивительным, пожалуй, было то, что Лавра возложил на себя эти обязанности как бы сам, спокойно и безропотно, будто загодя знал, что они только для него одного и предназначены и что, кроме него, никто другой с ними и не справился бы.
И вот ведь еще какая штука: Лавра не был перегружен. Он легко, даже играючи, управлялся со всеми своими делами и выкраивал время поболтать часок-другой с разной тыловой братией. У него был какой-то особый ритм жизни и работы. Природная уравновешенность и душевная доброта выручали Еремина в критические минуты фронтового житья-бытья. Налетит, бывало, на него коршуном Андрюха Дубицкий, накричит, нашумит за какую-нибудь малую промашку — Лавра ни слова, тихо и виновато улыбнется, спокойно примется за дело…
Приедем на новое место, Лавра роет яму — укрытие для машины, затем — ровик для рации, потом идет с котелками за обедом, по пути забежит на почту, заберет письма, газеты, узнает важные новости, которые ему сообщит под строжайшим секретом ординарец начподива, вернется, накормит всех, расскажет услышанное, полезет в кузов машины гонять колесо «американки» и мирно беседовать с Иваном Обуховым; покончив с этими делами, закурит, передохнет капельку, потом откроет капот полуторки и поковыряется в свечах, в клапанах, продует трубки, что-то подвернет, подкрутит, протрет весь мотор ветошью. И все не торопясь, не суетливо. Как-то кругло и ладно у него все получалось.
Лаврой не надо было командовать. Он сам себе командир. В освобожденных дивизией селениях Лавра с неуловимой быстротой завязывал «деловые связи» с местным начальством, с кузнецами, плотниками и в первую очередь с женским персоналом. Женщины стирали нам белье, латали брюки, гимнастерки, пополняли продовольственные запасы Еремина разной домашней снедью, особенно дорогой после казенных наших харчей.
Никто бы из нас не мог и подумать, что одна из них влюбится в Лавру. Что там говорить, Лавра не был красавцем… Большеротый и большеносый, с большими оттопыренными ушами и к тому ж немолод… Но поди ж ты: отыскала же что-то в нем бабенка, прикипела сердцем, и очень даже крепко прикипела. А мы, настроенные благодушно и снисходительно-насмешливо, не могли предвидеть опасных последствий этого далеко не единственного у нас романа…
Любовь вспыхнула в старинном городке у Днепра, и мы полагали, что она угаснет сразу же, как только дивизия окажется за Днепром и двинется на запад. Но мы жестоко ошиблись. Влюбленная шла за нами по пятам, шла тайком, была как бы на нелегальном положении, укрываясь где-то в дебрях второго эшелона: не то в медсанбате, не то в полевой автохлебопекарне, не то в прачечной, где бдительность была не столь уж высокой. Объявилась лишь в Румынии, пришла в редакцию и потребовала, чтобы мы зачислили ее в свой штат…
Назревал великий скандал. Над безумной головушкой Лавры нависли черные тучи. И быть бы ему в беде, не соверши редактор героического подвига: он пошел хлопотать за шофера перед самим генералом, человеком совсем несентиментальным. Мы хорошо знали, что редактор пуще погибели боялся высоких начальников и скорее бы согласился закрыть своим телом амбразуру вражеского дота, чем пойти к комдиву с каким-нибудь прошением. Но потерять Еремина — для нас означало потерять все. И смертельно бледный, вобрав голову в плечи, редактор медленно побрел к блиндажу генерала — так, должно быть, приговоренные идут на эшафот.
Одновременно с редактором в направлении землянки полковника Денисова двигалась фигура другого благородного рыцаря — Юры Кузеса, преисполненного решимости самому вынести любой удар судьбы, лишь бы спасти бедного Лавру. Длинный, костлявый, с гордо поднятой головой и с вдохновенно горящими глазами, Юрка в эту минуту и впрямь был похож на Дон-Кихота Ламанчского…
Вопреки скептическим предсказаниям Андрея Дубицкого, склонного рисовать обстановку в более мрачных тонах, миссия редактора и Кузеса увенчалась полным успехом. Лавра был спасен, правда, ценою здоровья нашего редактора: беднягу три дня трепала лихорадка, и Лавра ухаживал за ним с таким самоотвержением и с такой преданностью, что могла бы позавидовать любая сестра милосердия. О вздорной бабенке он, казалось, совсем забыл, хотя знал, конечно, что ее определили поварихой при АХЧ. Неизвестно, встречался ли с нею потом Лавра, но в редакции ее никогда больше не видели.
Лавра по-прежнему служил у нас, нередко выручая дивизионку в тяжких обстоятельствах.
Попали как-то под бомбежку, все разбежались, и только Еремин остался в кабине полуторки и начал маневрировать: самолет ложится в пике, Лавра на полной скорости мчится ему навстречу, бомбы падают далеко позади. Так повторялось несколько раз. И все-таки один осколок попал в мотор, пробил блок и повредил поршень. Вокруг раненой полуторки собрался консилиум из шоферов проезжавших по шоссе машин. Столпились и мы, мрачно и покорно ожидая, какой приговор вынесут нашей старушке специалисты. Лавра, хмурый и молчаливый, тоже ждал.