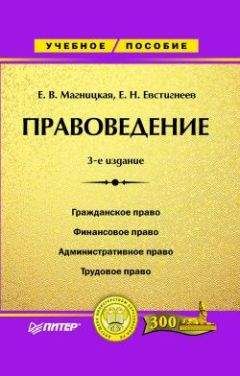Юлиан Семенов - Семнадцать мгновений весны (сборник)
Корм продавали старухи. Они держали в скрюченных пожелтевших пальцах маленькие кульки, свернутые из старых, серых газетных срывов.
Над толкучкой летали голуби. Раньше, до войны, на площади Старого рынка только и стояли эти старухи с кормом для голубей, и люди покупали у них корм и угощали голубей с руки. Голуби были прирученные, они садились человеку на плечи, на руки, на голову и уютно, таинственно бормотали что-то, расклевывая распаренные, большие зерна. Теперь же голубям негде было садиться днем – площадь была занята толкучим рынком, по которому ходили голодные люди. Только по вечерам голуби садились на площадь, и она делалась голубой, нереальной, сказочной.
Корм почти никто не покупал, так же как иконы. Старухи и старички с иконами и кормом стояли на Старом рынке потому, что они здесь торговали всю жизнь. Отними у них это занятие – и им нечего будет делать на земле. Разве что изредка корм покупали немецкие офицеры и шли фотографироваться к костелу – они улыбались в объектив, облепленные голубями, дрожащими от голодной жадности.
Еще реже покупали корм ксендзы и раздавали его горстками детям, чтобы те могли – после службы в костеле – покормить божьих птиц.
А иконы не покупал никто: в каждом доме были свои. Только разве изредка какая вдова остановится возле скорбной Богоматери или доброго лика Христова, утрет слезу, быстро перекрестится, присядет в полупоклоне и спешит дальше, предлагая платок в обмен на творог для больного ребенка.
Вихрь впитывал людскую речь. Он испытывал острое чувство счастья, слыша голоса людей, потому что не должен был никому и ничего отвечать. Каждый ответ в гестапо дорого стоил ему. Ответ должен быть быстрым, непринужденным и правдивым настолько, чтобы при возможной проверке оставался путь для двоякого толкования. Ночью после допросов он не мог спать, ибо заново «прокручивал» в памяти это свое «кино» – удел любого разведчика. Он вспоминал каждую интонацию шефа, он вспоминал, в какой последовательности они задавали ему вопросы, что он им отвечал, где держал паузы, какие его ответы могли оказаться после их змейского анализа поводом к новым вопросам. Он не готовил себя к завтрашнему дню. Вихрь понимал, что, если он заранее приготовит позицию, а они поведут допрос совсем по другому срезу, ему будет трудно переделывать свою концепцию на ходу. Он готовился к следующему допросу иначе. Сначала он восстанавливал в памяти все предыдущие допросы, отмечал для себя, какой круг вопросов они еще не затрагивали, прикидывал, что их должно интересовать в первую голову, и таким образом намечал заранее приблизительные ответы на каждый возможный узел тем, которыми, вероятно, будет интересоваться гестапо.
Однажды сволочной старичок из Орла, работавший на немцев среди интеллигенции в качестве секретного сотрудника гестапо, говорил Вихрю и двум молоденьким чекистам, допрашивавшим его: «О голодные, истеричные, пронизанные слухами и надеждами рынки войны! Как быстро люди в дни мира забывают вид этих трагичных рынков! Единственная гарантия против войны – это людская память. Но ее, людской памяти, нет. Есть память человеческая – у каждого своя, и притом, как правило, плохая. Если бы заменить память иным чувством, например завистью, тогда войн не было бы вовсе. Память – как погода, она меняется в зависимости от настроения человека. Хорошо ему – он вспоминает хорошее или же о плохом говорит с улыбкой: оно, это плохое, уже миновало и в настоящее время ему, этому человеку, не угрожает. А коли человеку плохо, так все зависит от характера: он или на другого за это „плохо“ вину навесит, или будет биться насмерть, чтоб плохое поменять на хорошее, или запьет горькую, или плюнет на все и заглянет в лицо старухе с косой – когда нет выхода. Вспоминают вообще редко. Чаще думают о будущем. Потому и воюют…»
«От старый черт! – как-то удивленно подумал Вихрь, вспомнив старика. – Про трагизм базаров он верно говорил. Я почти никогда не вспоминал голод двадцать девятого года, а ведь я его помню… Про зависть и остальное – надо было б поспорить. Спор – это вроде точильного камня в поисках истины».
Слепец толкнул Вихря в бок.
Вихрь неторопливо обернулся. Слепец кивнул головой на молодого парня в черной вельветовой куртке, в серых брюках, заправленных в сапоги. Парень держал в руках кульки с кормом для голубей.
Очная ставка
Старик в военной форме теперь был не один. Рядом сидел человек в сером штатском костюме. Коля понял, что этот – из гестапо. Он не ошибся. Старик-офицер сказал:
– С вами будет беседовать господин из отдела по перемещению иностранной рабочей силы.
«Знаю я эту рабочую силу, – усмехнулся про себя Коля. – Рожа – кирпича просит».
– Очень приятно, – сказал он, – а то я сижу, уж волноваться начал.
– Волноваться вредно, – сказал штатский, – особенно такому здоровому молодому человеку, как вы.
– Я волнуюсь не по своей воле, – улыбнулся Коля.
– По нашей? – тоже улыбнулся штатский.
– Да уж не по своей.
– Ну, хорошо… Оставим это. Где бы вы хотели работать? В какой отрасли хозяйства нашего народного государства?
– Видите ли, я получил много профессий за последние три года. Я уже их перечислял.
– Да, я в курсе. Вы оборвали цикл занятий на физическом факультете ближе к завершению или в середине?
– В середине. Да, пожалуй, в самой середине.
– А как у вас с языком?
– Скорее плохо, чем хорошо. Я и в школе получал посредственные оценки по немецкому языку.
– Да?
– Теперь жалею. Но у нас плохо учили немецкому.
– Совершенно верно. Мне рассказывали, что в ваших школах вообще не изучают произношение. А ведь у нас есть и берлинское, и баварское, и северное, и швейцарское, и австрийское произношение.
– В том-то и дело. А самому заниматься было трудно: времени не хватало, есть хотелось, а не подхалтуришь – не пошамаешь.
– Пошамаешь? Это что такое?
– Шамать – значит есть, жевать, как говорится, от пуза.
– Вы веселый молодой человек. Вас зовут…
– Андрей…
– Андрей, – повторил немец. – А отчество?
– Яковлевич. Андрей Яковлевич.
– Яковлевич, – задумчиво протянул немец. – Вообще-то весьма еврейское отчество.
– Яков? Ну что вы… У вас самих много Яковов. У меня был знакомый немец Якоб Ройн, фельдфебель.
– Откуда этот Ройн?
– По-моему, из Берлина.
– А отчество вашего отца?
– Иванович. Яков Иванович.
– Где родились?
– Потомственный москвич.
– Место жительства?
– Мое?
– Отцово.
– Вместе с нами жил.
– Это вы уже написали. Меня интересует, где он жил до того, как вы приехали на вашу квартиру?
– Я не помню… Где-то на Палихе, а точно не помню, не интересовался.
– Скажите мне вот что, – растягивая гласные, сказал гестаповец, – где вы работали в Минске?
– В парикмахерской.
– Их там было много. В какой именно?
– В парикмахерской Ереминского.
– Опишите мне подробно внутренний вид парикмахерской.
– Ну как… Длинная комната, в ней кресла – вот и все.
– Сколько было у вас кресел?
«Они мотали Степку, теперь проверяют на мне. Но Степка говорил, что мотал его один старик, почему пришел штатский? Степка наверняка сидит в темной комнате, они его выдерживают – психологи чертовы. Но почему пришел гестаповец? Неужели Степка погорел? Или погорел я? Не может быть! Он не мог продать меня, не мог!» – быстро думал Коля, машинально отвечая:
– У нас было три кресла.
– Три кресла, – задумчиво повторил гестаповец, – это хорошо, что три кресла… Это отлично, что у вас было именно три кресла…
Он открыл толстую папку, на корешке которой было выведено по-немецки «Минск», и стал рассеянно рыться в бумагах.
«Такие номера у нас не проходят, – подумал Коля, – так пугают только дошкольников…»
– Это просто совершенно великолепно, что у вас было три кресла, – снова повторил гестаповец, – а за каким креслом работали вы?
– Когда как…
– Определенного, своего кресла у вас не было?
– Чаще всего я устраивался возле большого окна: была видна улица… Интересно, знаете ли…
– Девочки, ножки, юбочки…
– В том-то и дело.
– Сколько вам платили в месяц?
– У нас была понедельная оплата. Хозяин платил нам каждую субботу. Это приказ бургомистрата – платить понедельно, разве вы не слыхали?
Гестаповец чуть улыбнулся уголком рта, и Коля понял, что он ведет себя верно: его ловили с разных сторон, и не в лоб, а издалека, через детали.
– Скажите, пожалуйста, – спросил гестаповец, по-прежнему длинно растягивая гласные, – а какой-нибудь рисунок у вас на окнах был?
– Было два рисунка, – сухо ответил Коля. – Вы что, не верите моим документам?
– Какие были рисунки?
– Как всегда на парикмахерских. Мужчина и женщина. С фасонными прическами.
– Хорошо… Какой машинкой вы работали? Русской или немецкой?
– Сначала русской, а потом достал немецкую, золингенской стали.