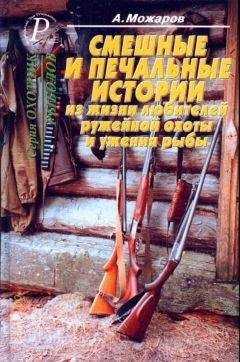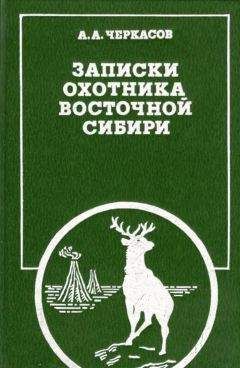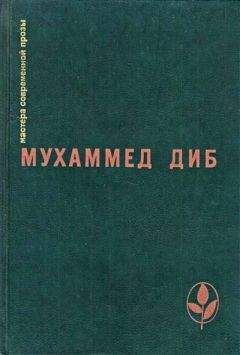Адександр Можаров - Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы
Сразу после праздника я помчался за Волгу и еще издали, пробираясь по просеке, изрезанной ломаными полосами голубых теней, увидел, что все белоснежное поле перед шалашом разрисовано витиеватыми петлями чьих-то следов. Казалось, будто игрушечные гусеничные тракторы размеренно и деловито катались туда-сюда по поляне то параллельно один другому, то пересекая след друг друга. Нет-нет, они опускали на снег какие-то балансиры, и те мягко очерчивали волнистыми линиями сравнительно глубокие колеи. На полянку я въехал, дрожа от возбуждения, и, рассмотрев ближайший ко мне четкий куриный след — точь-в-точь петух натопал, — медленно, как с минного поля, отступил назад.
— Они, они, они, — ликовало мое существо, и березы чуть насмешливо и снисходительно покачивали утонченными вершинами.
Шалаш был засыпан, словно берлога, вознесенная каким-то чудом над сугробами. Я вычистил наметенный внутрь снег и набросал на доски лапника.
Вы знаете, что такое счастье? Нет, вы не знаете, что такое счастье. Этого нельзя знать. Это можно только чувствовать.
Лыжи, ружье, патронташ, унты, спальник на собачьем меху — все было спрятано дома у деда Сани, и я ждал только часа, когда, уходя под вечер, скажу брату, что весна, мол, и раньше утра не жди.
Апрель нежный и теплый, как поцелуй, тронул льды у снега, и все взыграло, забурлило, засверкало, бросая повсюду яркие блики. Сначала пошли мутной глинистой водой снега с нашего высокого берега. В такое время я завидую детям, пускающим по ручьям парусные кораблики. Кудьма вздыбилась, исполосовав трещинами лед, и ждала теперь знака свыше, чтобы выйти из повиновения зиме. Воздух был сырым и горячим, окон на ночь не затворяли. И, наконец, настала та теплая и темная ночь, когда гора и деревня на ней вздрогнули от могучего вздоха стихии. Лед пошел.
И тогда я со всей отчетливостью вдруг понял простую и непоправимую вещь — охота закончится раньше, чем пройдет лед. Это было так невероятно и в тоже время естественно, что я почувствовал себя просто глупым, несчастным, обманутым ребенком, родившимся 29 февраля и ждавшим очередного дня рождения целый год, а потом вдруг не обнаружившим в календаре этой даты. Отчаянье пульсировало в висках, а дальнейшая жизнь была лишена всякого смысла.
Открытие десятидневной охоты объявили на второй день ледохода.
Обычно лед идет те же десять дней, хотя через четыре— пять уже можно плавать на лодке. По два раза на дню я заходил в прокуренный и прокопченный домишко деда Сани, который должен был отвезти в Затон и на другой день забрать меня оттуда, справиться, не захворал ли и не запил ли он.
— Ты меня не пытай, я не шпиён, — обижался дед на мои проверки. — Сказал свезу, сталоть свезу. В уставе старого солдата слово «отступление» не обозначено!
Погода вдруг резко изменилась, и надрывно-синее небо затянули холодные тучи. Моросило целыми днями, пока не пошел снег. Редкий и какой-то ненужный апрельский снег, таявший, едва снежинки касались земли, прервал тягу, и вечерами мы сидели дома. Слякоть тоскливым студнем-дрожжалкой скользила по дорогам, лезла в сени и наполняла душу.
На шестой день ледохода и второй день дождя дед Саня запил. Тютюня, чуявший с большого расстояния, как кобель пустующую суку, запах самогонки, переселился к деду. Тон обиды в голосе деда Сани теперь, когда я нашел их тепленькими, сменился на оправдательный и снисходительный одновременно.
— А чё ты к затонским-то? — с трудом выговаривал он, стараясь посмотреть на меня обоими глазами одновременно и обращаясь за поддержкой к Тютюне, упрекал: — Нашими брезгает. У тутошных зады не румяные.
Тютюня, ничего уже не соображавший, кивал головой и бессмысленно смотрел на пустую четверть.
— А мы тебе с румяными найдем. Вон Тютюня Вальку тебе отдаст, а ты нам пузыря ставишь.
Услышав это, Тютюня оживился и поискал глазами по комнате меня, а заметив, но так и не сумев зафиксировать взгляд, улыбнулся улыбкой идиота.
— Велю, и она сполнит! — возбужденно сказал он куску черствого черного хлеба. — Аты нам — пузыря.
— Допились, — обреченно помотал я головой. — Дочь за бутылку продать готовы.
— Дочь за бутылку?! — сконцентрировав остатки силы воли в области лица, оскорбился Тютюня, словно это я предлагал им продать мне Валентину за бутылку, и обернулся на деда.
Дед Саня удивленно и вместе с тем осуждающе посмотрел на меня и одновременно мотнул головой, что, мол, он тоже не согласен с таким моим предложением. Во-первых, Валентина городская, с высшим образованием, врач-стоматолог, во-вторых, тут ее отец сидит, поэтому бутылки за нее мало.
— Ты нас с дедом неделю поить должен за Вальку-то! — высказал наконец с упреком Тютюня и упал на пол.
— А ну вас к чертям собачьим, — махнул я рукой и ушел.
За два дня до окончания охоты, когда вода почти затопила луга, и лед белыми островками держался лишь кое-где за кусты и деревья, самогон, настойка пустырника, одеколон и деньги у них кончились. Очухавшись к концу дня и поправившись хлебным квасом, они отвезли меня в Затон, стребовав-таки бутылку на опохмелье.
По неузнаваемым в половодье местам я побрел, сгибаясь под тяжестью рюкзака, к шалашу. День был хмурый, и мелкие капли мороси нет-нет приятно осыпали разгоряченное лицо. Сапоги однообразно хлюпали в многочисленных ручьях и лужах, трепетно дул в вышине в свою дудочку бекас, и снег серел по ямам и овражкам гигантскими кусками обмусоленного и вывалянного в угольной пыли сахара. Пахло вербами.
Просека уже высохла, а на болотине тонкой коркой лежал снег. У входа в шалаш вздрагивала мелкой рябью лужа с ледяным дном. Шалаш пришлось подремонтировать тяжелым мокрым лапником. Поверх того, что лежал на досках я расстелил, поеживаясь от капающих за шиворот холодных капель, розовую медицинскую клеенку и спальник, потолок затянул полиэтиленом и закрыл вход тремя мохнатыми еловыми ветвями.
Стемнело быстро, и лес вокруг шалаша наполнился особенными ночными звуками.
— Это вальдшнеп захоркал, а это с веток капли булькают в лужи, — прошептал я сам себе и уснул.
Яркое солнечное утро согнало на ток не меньше двух десятков косачей. Я смотрел на них во все глаза. Черные, с косицами хвостов петухи танцевали по снежной корке каждый свое. И крутились-то, и подпрыгивали, и все булькали, булькали. От этого непрерывного бормотанья-бульканья из клюва у них брызгала на стороны пена, но они не переставали булькать, красуясь друг перед другом. Это был странный спектакль. Птицы, казалось, не замечали друг друга, словно танцоры на соревновании. Каждый петух, будто медитируя, танцевал лишь для себя и невидимого зрителя — рябой тетерки, которая во-о-н где притаилась, в вершине берез. В отличие от тех, о которых писали или рассказывали разные охотники, мои тетерева только бормотали, но не чуфыкали. Словно испанцы в канте хондо, они вдруг распускали веера, и тогда под ними снегом вспыхивали белые подхвостья. Вот-вот ударят в кастаньеты кончики опущенных серпами крыльев. Но нет, это не древнее канте хондо, и даже не канте фламенко, это просто пасадобль. Вот один надвигается на меня огромной черной грудью с металлическим отливом и зло смотрит маленьким влажным глазом из-под алой брови. Вздрагивает крылами, отворачивается, точно и не смотрел мне в глаза, вспрыгивает от нетерпения вверх. Теперь другой. Солнце томно окрашивает медью его выпуклую грудь. Болеро. Да, это же болеро! Почему он не ударит крылами, как в ладоши? Или ударил? Нет, это им хлопает кто-то сверху. Ах, вот что. Еще летят. Где же они тут поместятся?
— Что ж это я? Нужно же стрелять.
Медленно, беззвучно кладу пальцы на курки своей тулки.
— Господи, да я же взял братову вертикалку.
Нежно просовываю стволы в амбразурку среди еловых веточек.
— Ну?
Палец меня не слушает, видно затек. Жму изо всех сил.
— Ну?
Нажал. Выстрел раздался негромко, словно издалека, и раскатился эхом по лесу: тч! — фш-ш-ш-ш.
Мимо!
— Да как же это может быть-то, господи. Вот же он, у ближнего ивового прутика, в двадцати шагах, я же вымерял вчера. В грудь! Стрелял в грудь! У них же перо на груди весной, как броня. Рикошетит. Сбоку же надо.
Как по заказу, ближний петух поворачивается боком и застывает. И снова выстрел звучит глухо, будто осечный: тч! — фш-ш-ш-ш. И снова петух не обращает никакого внимания на осыпавшую его дробь. Грудь сдавило чувство отчаяния, но тут раздалась целая канонада — очевидно вокруг было много не замеченных мной раньше охотников: тч! — фш-ш-ш-ш, тч! — фш-ш-ш-щ, тчу! — ф-ф-фш-фшы.
Я открыл глаза. Кругом была темень. Я лежал в спальнике, и правая рука, подвернутая за спину, совершенно затекла. Откуда-то сверху слышалось гусиное шипение, начинающееся с отрывистого звука, который письменно можно обозначить, как «тч», «чу» или «чь». Эти звуки били по ушам, будто из стереонаушников. И еще откуда-то издалека доносилось гулкое голубиное воркование-бульканье.