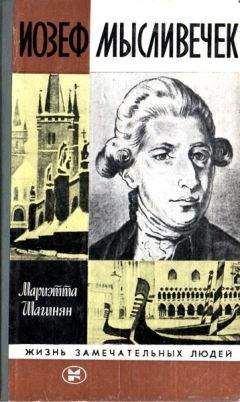Мариэтта Шагинян - Приключение дамы из общества
Вошел маленький человечек, ростом в полтора аршина. Он ступал щеголеватой походкой горбуна, выпятив грудь и ставя ступни близко друг к дружке. Голова у него в форме длинного огурца сидела глубоко в плечах. Два острых глаза пронзительно оглядели меня. Потом горбун достал ключ, поднялся на цыпочки и отпер номер одиннадцатый, принадлежавший товарищу Безменову.
— Простите, — начала было я, двинувшись к нему за вопросом.
Но он обернулся, поманил меня пальчиком и оставил дверь за собой открытой. Я вошла в номер.
Это была самая неуютная из виденных мною в жизни комнат. По обе стороны ее стояли две железные кровати. Посередине стол, не покрытый скатертью, с двумя фунтами черного хлеба. Между окон висело длинное кривое зеркало с подзеркальником, от каждого шага в комнате дребезжавшее и кривившееся. Вешалка на стене, — и это все: ни занавесок, ни шкафа, ни умывальника, ни даже стульев, кроме двух табуреток. Подушки на кроватях были без наволочек. Поверх них накинуты серые байковые одеяла.
Горбун все так же молча указал мне на одну из табуреток, достал из кармана перочинный нож и нарезал хлеб ломтями. Потом он позвонил, оставил дверь открытой, вынул газету и погрузился в чтение.
Вошла девушка в фартуке, подоткнутом за поясом. Она принесла тарелку с супом и прибор. Потом вынула из кармана два соленых огурца в бумажке и положила их на стол. Горбун придвинул тарелку и, глядя в газету, принялся хлебать суп, от рассеянности проливая его на стол. Я почувствовала голод. Суп был южный — густая похлебка из помидор, зеленого перцу, картошек, бобов, луку и кусочков жира, густо посыпанная укропом.
Доев суп, он развернул бумажку и откусил от огурца, выбрав тот, что поменьше. Каждый кусочек он сопровождал большим ломтем хлеба, пока не съел своего фунта.
Тогда он смахнул со стола сор, собрав на тарелку крошки, и снова позвонил. Девушка принесла ему стакан чаю с двумя карамельками. Он жадно схватил их и спрятал в карман, а чай выпил как воду, гримасничая и обжигаясь. Потом, как ни в чем не бывало, скинул куртку и сапоги, забрался на одну из кроватей, натянул на себя байковое одеяло и, прежде чем я опомнилась, засвистал носом.
Прошло несколько минут, дверь скрипнула, и вошел товарищ Безменов. Еще на пороге он обвел глазами комнату. Я заметила, что он сконфужен и утомлен. Положив портфель на другую кровать и кинув поверх него фуражку, он жестом пригласил меня выйти за ним в коридор. Кратко я объяснила ему, как сюда попала.
— Будем говорить шепотом, чтоб не разбудить товарища, — сказал он и снова вошел в комнату, придвинув мне табуретку. Потом он позвонил и, как и горбун, нарезал хлеб ломтями. Девушка принесла две тарелки супу. Одну он придвинул мне, за другую принялся сам. Я не заставила себя просить и с аппетитом съела густую похлебку. Потом мы поделили огурец и напились чаю с карамельками. После этого товарищ Безменов достал блокнот, написал на листе несколько слов и протянул его мне:
«Что вы думаете делать?»
Я ответила тоже письменно:
«Ехать назад, жить у аптекарши, искать работу, попытаться найти родных мужа».
«Умеете писать на машинке?»
«Нет, но могу научиться».
«Сейчас мне в канцелярию нужна машинистка. Если хотите, с завтрашнего дня зачислю вас в штат, с условием недельного обучения».
«Согласна. Где мне жить? У ваших неудобно, и я уже простилась».
«Живите в соседней комнате, там есть лишняя кровать».
Он встал, поманил меня за собой, и мы вышли вместе в коридор. У соседнего номера, двенадцатого, он постучал. Дверь открыл его секретарь, юноша на деревяшке. При виде меня он удивленно поднял круглые брови.
— Василий Петрович, — сказал ему мой спутник, — это наша новая машинистка и ваша соседка по комнате с сегодняшнего дня. Будьте добры, сделайте все распоряжения внизу и покажите ей, как обращаться с ремингтоном. В недельный срок она должна обучиться.
Я слушала молча и с ужасом. Мне приходилось работать как истопнице, кухарке, швее, пирожнице, поденщице, прачке, сиделке. Я разбивала киркой камни на шоссе. Я вынесла тяжесть благотворительности чужих и чуждых людей. Но жить в одной комнате с неизвестным мужчиной, войти в эту казенную, безотрадную, убогую жизнь, страшную своей оголенной необходимостью и суровым неблагообразном, показалось мне жутким. Я повернулась к Безменову и раскрыла рот, чтобы отказаться.
Но молодое и усталое лицо передо мной зажжено было прежней, цюрихской улыбкой. Короткая верхняя губа поднялась над мелкими зубами. Сияющие голубые глаза искрились чем-то похожим на вызов. Он издевался надо мной! Я стояла перед ним нищая, больная, голодная, похудевшая, как тень, и он издевался надо мной! Он находил, что этого не довольно! Прежняя Алина опять встала во весь рост. Я вернулась в комнату, взяла свой узелок и водворилась у юноши с деревяшкой.
Как только дверь за товарищем Безменовым затворилась, Василий Петрович, казавшийся озадаченным больше, чем я, кинулся вслед за ним. Должно быть, побежал отказываться от чести сожительства со мной. Это развеселило меня, и я принялась осматривать комнату.
Она была еще меньше, чем предыдущая. Но убожество ее обстановки скрадывалось некоторыми признаками оседлости и уюта, чего не было в соседней комнате. На подоконниках стояли горшки с зимними растениями, распускавшими свои воскообразные веточки во все стороны. Подзеркальник был чуть ли не доверху завален книжками без переплета. На столе, рядом с пустым стаканом и хлебной корочкой, лежали тетради и листы бумаги, исписанные крупным ровным почерком. Я невольно наклонилась над ними: короткие строчки изумили меня, — это были стихи! Стихи в такой обстановке и вдобавок у человека на деревяшке. По странной ассоциации я вспомнила «литературного человека с деревянной ногой» из романа Диккенса.
Василий Петрович с шумом вошел в комнату. Круглое лицо его было огорчено, брови плаксиво подняты у переносицы и спущены к вискам.
— Товарищ Безменов всегда так… — ворчливо начал он, прибирая со стола листы. — Ни словом не предупредит, как снег на голову; вы, впрочем, располагайтесь вот в этом конце комнаты. До вас тут жил проездом один военком, шумел, буянил, я не люблю шума. У нас что ни день заседания, надо, следовательно, собираться с мыслями.
— Я не буду шуметь, — миролюбиво ответила я.
— Кто же говорит, что вы будете шуметь. Вы женщина, следовательно, не из шумных. Я только говорю, что без предупрежденья; хоть бы утром сказали мне, в чем дело. А то «по личному делу». Вот тебе и личное дело.
Он еще долго стучал по комнате деревяшкой, волнуясь и бормоча себе под нос целые речи. Потом успокоился, снял чехол со стоявшего на табурете ремингтона, достал из портфеля несколько листов чистой бумаги и пригласил меня к столу. Я села возле него, облокотившись на руку и глядя на алфавитную клавиатуру. Мой учитель был менее всего педагогом. Он сам знал в ремингтоне столько же, сколько и я. Прочитав надписи, он медленно повторял их мне и пробовал неуверенными пальцами, что из этого выйдет. Я принялась стучать сама, отняв у него машинку не без некоторого насилия, и привела его в восторг.
— Вот что значит быть хорошим учителем! — восхищался он. — Другой бы наговорил, наговорил и, следовательно, набил вам голову пустяками, а я показал на практике — и готово.
Спустя некоторое время он дал мне переписать казенную бумажку и, когда я исполнила это, таинственно достал из-под подушки спрятанные туда стихотворные опыты.
— Вам теперь, следовательно, практика нужна, — понизив голос и оглянувшись на дверь, сказал он мне на ухо. — Я ухожу сейчас на заседанье, а вы до вечера остаетесь одни. Вот и позаймитесь, тут стишки одного моего товарища. Перепишите их и кстати выскажитесь мне, как они насчет формы.
Он взял фуражку, портфель, вышел было, но вернулся и опять зашептал:
— А по поводу ночлега не беспокойтесь, я уже сказал — прибьют веревку и занавеску повесят. Это на первое время, пока у нас народу на конференцию понаехало, помещенья нет. А потом освободится комната, и вас отсюда переведут.
Он исчез, застучав деревяшкой по коридору. Я заперла дверь на ключ, хрустнула костями, потягиваясь в блаженной зевоте, и легла на жесткую кровать. Мне приятно было сознавать себя одной, независимой, не видимой никому. Около часа я спала, а потом встала весело, как в детстве, дождалась свету (электричество давали лишь с темнотой) и уселась за переписку. Стихи были совсем неожиданные — лирические, грустные, без всякой воинственности, с полным отсутствием гражданских мотивов:
На улице весна,
Всех обогрела она,
Стар и млад идет, спешит,
А я бедный инвалид.
И все в том же духе. Сперва я только переписывала, а потом ритмическое чутье возмутилось во мне, и я стала понемножку исправлять. Работа доставила мне огромное наслажденье, то была первая интеллектуальная работа за несколько месяцев. И разошлась же я! Тут вставлю новую благозвучную рифму, там исправлю размер, сокращу число слогов. Прочту себе вслух и радуюсь — как прилично выходит. За работой я забыла о времени и вздрогнула, когда услышала стук в дверь. Вошла утренняя женщина с большим медным чайником и подносом; она расставила на подносе два стакана, положила опять пару карамелек и спросила меня: