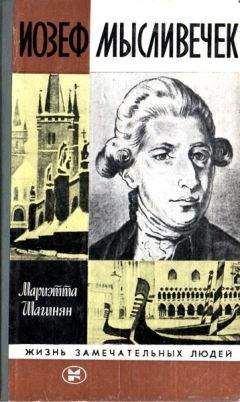Мариэтта Шагинян - Приключение дамы из общества

Обзор книги Мариэтта Шагинян - Приключение дамы из общества
Мариэтта Шагинян
Приключение дамы из общества
Глава первая
Говорят, тетя Лиза выпустила за границей мемуары о графе Коко. Это легче, наверное, чем писать о себе. Я не намереваюсь создавать мемуары, хотя жизнь моя за последние пять лет могла бы послужить материалом для одного из фантастических рассказов Бальзака из эпохи революции, в стиле его «Histoire des Treize».[1] Но меня мучает мысль, что муж мой, Валентин Сергеевич, еще жив (или считает себя живым, как это принято среди современной эмиграции) и до известной степени рассчитывает также на мое существование. Я хотела бы доказать, что расчет этот ни на чем не основан. Изложу попросту цепь событий, как они происходили и были пережиты мною. Они убедят его в том, что он потерял меня — потерял полностью и навсегда.
Мы проводили с ним лето в имении одного австрийского дипломата, когда грянула война. Хозяева наши, да, кажется, и Валентин Сергеевич, уже заранее знали об этой войне. Во всяком случае, недели за две до ее начала между ними происходили какие-то совещания о переводе куда-то денег, и мне тоже дали подписать какую-то бумажку, адресованную в «Лионский кредит», а за обедом шли разговоры о замечательной предусмотрительности Валентина. В ту минуту, когда нам принесли первый «Экстра-блятт» о «падении Бельгии перед натиском германских войск, совершивших свое победное шествие по Европе, достойное древнегерманского мужества», я впервые почувствовала недоумение. Мне было жалко Бельгию и короля Альберта, с которым мы еще прошлой весной познакомились в Остенде. Я представляла себе, сколько русских людей пойдут и уже пошли сейчас на войну из моей родной Измайловки, где я родилась и провела детство. И неожиданно у меня вспыхнуло что-то вроде тоски по Измайловке, ее полям и перелескам и спокойной тихой речушке в осоке и кувшинках. Мне было странно видеть понимающую, молчаливую улыбку, которой обменялись мой муж и австрийский дипломат, сказавший при этом непонятную фразу:
— Вам удивительно повезло, что вы провели эти две недели у меня!
А ведь этот австриец был врагом нашего отечества! Почему же нам повезло и почему Валентин молчаливо согласился с ним?
Тем не менее нужно было спешить с отъездом, и отъезд наш внешне походил на бегство. Пять моих чемоданов пришлось бросить в Австрии, и лишь с четырьмя нам удалось пробраться в Швейцарию. Муж пренебрежительно отзывался о Цюрихе, как о месте, где можно встретиться со всяким, как он выражался, «политическим сбродом». Но для меня в то время, после фальши и натянутости австрийского поместья, Цюрих показался довольно приятным местом. Наступал зимний сезон. Острая свежесть и прохлада замечательного воздуха так мало походили на обычный городской. В рыночный день Цюрих завален был итальянскими овощами и фруктами; отовсюду, из маленьких ресторанчиков и семейных «Allkogolfrei!»,[2] доносился запах вареной красной капусты. Почти все гостиницы были переполнены беглыми иностранцами. Даже частные комнаты и те шли нарасхват. Мы приехали поздно. Поэтому нам пришлось удовольствоваться довольно скромным пансионом, где жили разные русские, преимущественно из среднебуржуазных кругов. Валентин, разумеется, ни с кем не знакомился, а мне было скучно, и я сошлась с тремя барышнями, путешествовавшими для изучения языков. Вместе мы бегали по Цюриху, и одна из них, самая неугомонная, научила меня любить бродяжничество по незнакомому городу.
— Посмотрите, — говорила она, когда мы попадали куда-нибудь на окраину, — разве у каждого города нет своего лица? Один кажется вам старым, другой юношеским, у того что-то женское, у другого стариковское. А наш Цюрих похож на интересного мужчину лет сорока, умеющего занимать общество и в то же время не болтающего о своих тайнах. У него масса скрытых внутренних переживаний, — ну разве это не переживание, о котором не подозревает ни один бедекер?
С этими словами она повела меня на высокую, идущую извилиной улицу, тенистую, необыкновенно живописную, так как вся она была почти сплошь из красного и серого камня массивной кладки, с коттеджами восхитительной английской архитектуры, пожалуй единственной сейчас в мире, которая имеет свой стиль. Эта улица была затеряна между другими на одном из возвышений холмистого города. С каждым шагом она казалась новой и открывала чудеснейшие уголки.
Так мы исследовали с моей подругой лицо этого города, всякий раз менявшего для нас свое выражение. Помимо всего прогулки эти были для меня очень содержательны. Екатерина Васильевна знала и любила искусство, много читала, умела разговаривать с женщинами. Это последнее я считаю редким даром. Мы не умеем говорить между собой, совершенно так же, как не умеем для самих себя нарядно сервировать стол. Наша лучшая сервировка рассчитана на гостей. В жизни женщины, по крайней мере нашего круга, таким гостем является мужчина. Я знала много умных, прекрасно образованных женщин, никогда не выказывавших между собой ни ума, ни знаний. Но зато каждая из них в обществе мужчины становилась мадам де Сталь.
Так вот, большим достоинством моей подруги я считала умение говорить со мною всерьез. Недаром необычайные приключения мои я датирую днем нашего знакомства.
Как-то раз мы шли с ней по одной из широких улиц нового квартала. Был полдень. Несмотря на позднюю осень, солнце грело нестерпимо, и жаркий, безветренный день среди длинного ряда дождливых походил на муху, проснувшуюся в декабре. Мы так устали от ходьбы и от солнца, что зашли в открытое кафе и попросили себе холодной воды. Там по сезону уже не было ни мороженого, ни лимонаду.
Прямо против кафе находился мост над более низшей частью города, и у входа на мост, справа и слева, возвышались две полукруглые каменные ниши. Их осеняла тень большого сучковатого дерева. А внизу под мостом, теснясь красными черепичными крышами, горстью жались домики, похожие на изящные корзинки или кустарные игрушки. Моя спутница кивнула на них кудрявой головой:
— Говорят о смерти архитектуры, об отсутствии у нашего столетия своего архитектурного лица. Это правда, что наши патентованные архитекторы из академиков и вообще разные «имена» помешаны на старом. Казенные здания опошляют ренессанс, а общественные строятся под ампир — и множество дурных ремесленников стряпают из них окрошку, снабжая все это медальонами, рахитичным фасадом, банальным тылом, подвешивая к фасадным выступам что-нибудь совсем неподходящее и именуя такую подпертую безвкусицу стилем модерн. Но дело в том, что это вовсе не показательно для нашего времени. А показательны вот такие улицы. Обойдите пригороды больших городов, новые европейские кварталы, загляните в цветущие оазисы, которые стали появляться на земле под чудным именем Flowers City (города цветов), поездите, наконец, по провинциальной Англии, и вы увидите, в чем выражаются архитектурные идеи века. Мы идем к изяществу, да.
— Но развитие машин, стремленье к монументализму, — попробовала я спорить, удивляясь на самое себя, как это мой ротик, из года в год приучаемый к одному и тому же запасу слов, стал выговаривать такие, посторонние.
— Обычное возражение. Вдумайтесь, и вы увидите, что оно вас бьет. Именно благодаря развитию машин мы идем к изяществу. Что такое машина? Машина есть минимум. Да, она стремится к возрастающему минимализму, чтоб при посредстве наибольшей экономии соответствовать полноте своей цели. Разверните старые книги, посмотрите на гравюры, изображавшие прежние паровозы, лет пятьдесят — шестьдесят назад. Они вам кажутся страшно косолапыми. Они и были такими. В их конструкции масса громоздкого, лишнего. А сейчас посмотрите на хороший паровоз, какой он красавчик. Пройдет, может быть, двадцать лет, и он покажется громоздким по сравнению с новым, еще более легким и изящным. Так и наши человеческие жилища. Вымирают в России деревянные окраины, а из Европы идет новый синтез бетона и камня, очаровательный, легкий, как коробочка, усвоивший всю музыку Деревянной архитектуры, домик-коттедж, идеальное жилище будущего человека, потому что оно похоже не только на дом, но и на яхту, на аэроплан, на почтовую коляску, на дачу, на… на что хотите. Будущий человек должен летать, плавать, ездить, а не сидеть на месте, копя добро. Это странно, что люди не чувствуют невыразимой прелести будущей архитектуры.
— А вот вам невыразимая прелесть человеческой позы, — прервала я ее, понизив голос.
Дело в том, что во время ее речи со стороны города по направлению к вокзалу появился молодой парень с ручной тележкой. Он был в рубашке с поясом, без шапки и не казался швейцарцем. Лицо его так раскраснелось от солнца, что было багрово. Белокурые локоны прилипли ко лбу, потемнев от пота. Он дотащил свою тележку, заваленную дорожными вещами, до каменной ниши, стал в тень и потянулся, откинув локти и голову назад, а грудь выпятив вперед. В этом жесте, как и в самом носильщике, было столько грации, что я не удержалась от восклицания.