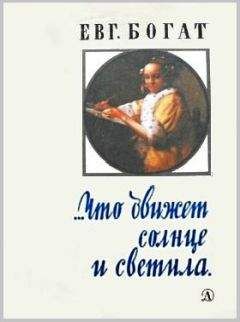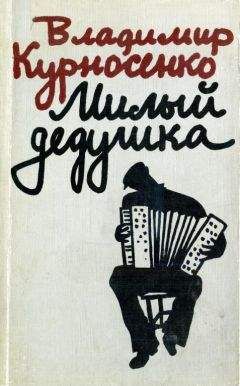Владимир Курносенко - К вечеру дождь
И потом, дальше маяки у французского берега и «щемящей бы вечерней романтики, — писал Кате, — а надо быть злым, надо быть здоровым и сильным…» Четыре часа со своей вахтой метал на палубе бочки, на четыре спускался в «ящик». Ящик — это такое личное как бы купе, где вместо верхней доски у боковой стены — занавесочка. И свет (лампочка висит на длинном скрученном шнуре над головой), и можно даже читать. И книги были. «Дон-Кихот», например. «Где же ты, моя сеньора? Что не делишь скорбь со мной? Или ты о ней не знаешь? Или я тебе чужой?» Хорошо!
А про щемящую вечернюю романтику — вранье. Все было хорошо. Была боль, но утихла, как в больном зубе, и больше он от нее не прятался. И когда она утихала, жил как все люди. Что было, тем и жил. Работали, ели, спали… Когда перекуривали, напарник Миша учил его первичной морской мудрости: «Каждый делает то, что может, а кто может, ничего не делает!» Да… А потом Миша раздробил себе бочкой палец на ноге и мог «ничего не делать», но оказалось, что не может он ничего не делать, и, хромая-матерясь, мудрец работал со всеми и со всей своей мудростью.
А вечером, если не попадалась смена, можно было снова смотреть на горизонт.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном…
Азорские прошли острова. Близко, как жизнь, сострил народный философ Миша. И живут на них, сказал, португальцы.
«Вы, кажется, потом-м-м любили португальца-а-а?»
Так, так. Братва играет на гитаре, и где-то внизу Атлантида, которой на самом-то деле не было. Не было, не было, ничего не было, и все хорошо, нет даже злобы на Акима, удушающей злобы, подступавшей раньше ночами.
Нет, нет, нет.
Это он все писал Кате, сам не зная зачем, отчет, что ли, делал? Чтоб все, как раньше, все на двоих. А потом снова вернулось то, ночное, его чувство: живи! Гляди во все глаза. Не уматывай в сторону. Терпи, коли надо. А там увидишь дальше, мало ли… Мало ли в жизни бывает всяких случаев. По жизни живи, учил Миша, читавший к тому же Сенеку. Живи по жизни, а там увидишь.
Надеялся. Надеялся, само собой, иначе — куда бы ему?
Хотя, кажется, вовсе «не простил» ее, Катю. Когда вспоминал, как стоял он у Акимовых дверей, дышать не мог, зубы трещали, уходил, прятался, задыхался. Но и это прошло. Мог возвращаться. Ребята звали еще на сезон, и хорошие ребята, товарищи, но он мог уже возвращаться и потому — чего ж?
Та же Рига, омытая разлукой, и запах земли, и берег.
Твердый-претвердый, а трава… зеленая!
Когда шли назад Бельдом, рисовал домики на Датском берегу, дымки от костров, уютность. На душе, говорил Миша, можно было играть как на органе.
* * *В гостиницу свою, в барак, он вернулся поздно. Если по-местному, по-волчье-бурлински, — что-то около одиннадцати. Евдокия Афанасьевна улыбнулась, отпирая дверь. Та же стеснительная улыбка с прижатой к зубам верхней губой.
— Повидались? — спросила.
Ага, кивнул он: повидались. И тоже улыбнулся. По-видимому, она уже знала, зачем, для чего он сюда приехал. И почему-то это (что «знала») показалось приятным, а не наоборот.
— Я тут вам чаю оставила, остыл, поди. Подогреть разве?
— Не надо. Я холодный люблю. Спасибо!
Он в самом деле любил холодный, но был, конечно же, тронут. Есть, есть-де все-таки на свете люди.
Стакан в железном подстаканнике стоял на тумбочке возле его кровати. Рядом два пряника и белая конфетка-подушечка в реденьких кристалликах сахара. «Есть, есть люди…» Лег, не раздеваясь, на заправленную постель, свесив в сторону грязные ботинки. Потом сел, отхлебнул чаю и снова лег. Чай холодный и несладкий был тот самый, который он любил. Другая вбухала бы ложки четыре сахару, подумал опять с благодарностью к Евдокии Афанасьевне, лишь бы в жадности ее не обвинили. А зачем сахар, если конфетка и пряники?
…Итак, он вернулся с моря.
— Здравствуйте, — сказал. — А где Катя?
И вышла Катя. Худая и тяжелая изнутри, как сырая сосна.
— Поедешь?
Поглядела черным, помолчала. А потом собрала желтую черепаховую сумку, и на тридцатом автобусе они уехали на отцовскую дачу. Его отец позволил им там жить.
Вечерами на качелях свет со второго этажа… У дверей старые мамины босоножки и яблони шевелят из темноты своими листьями. Радоваться бы, да не радовалось что-то, не верилось, неясной тревогой пряталось в саду. Днем Катя читала, лежа животом на гамаке, грызла большие розовые яблоки, мамину гордость, а он то качал ее гамак, то уходил куда-нибудь по реке смотреть на рыбаков. И все строил планы, все «как теперь они будут жить…» Вместе с родителями молчаливо было решено: скоро они с Катей поженятся, а пока до начала учебного года в институте (ему разрешили восстановиться), пусть поживут здесь, «проверят свои чувства». Иногда он целовал Катю, и она не противилась, хотя ей, он видел, это было не нужно. Да и сам он не очень к ней приставал. Опять начал сильно волноваться и хоть теперь он был уж не мальчик из девятого класса и многое для него стало проще, но все равно, все равно, думал, раз такая любовь, лучше и вправду обходиться пока, и пусть, пусть. Спали они отдельно, и все было «чисто», а впереди… и тут он все-таки щурился, изо всех сил стараясь забыть то, что с ними случилось. И это-то и было, наверное, уматыванием в сторону, то есть слабостью. Подлостью, по сути. Потому что, уматывая и закрывая глаза, он затаивал на Катю нехорошее, потому что прощать можно только до конца. Ему не хватило тогда силешек, перед ним не было тогда моря и розовых от солнца голодных чаек, и он поверил своей ближайшей хитренькой мысли: время-де пройдет, и все наладится, время — лучший лекарь, что все перемелется и будет вполне употребимая в пищу мука. А потом приехали родители, погостить, как они сказали, убрать яблоки и — «Ну, как вы тут устроились?..» — пообщаться с будущей невесткой. За ужином отец налил мужчинам по сто граммов, а мать молвила: «Женя у нас и всегда был особенный, а теперь… (она не то хотела сказать), а вы, Катенька!..» И заплакала, не удержалась. Катя смотрела в тарелку, а мать потом поправилась: «Вот уберем яблоки и испечем на свадьбу пирог. Так, что ли, Катерина?» Он не рассказывал матери, что с ними случилось, но мать знала. Может быть, вычислила. Ведь все его «море» легло на ее плечи. Он не винил мать, когда на другой день ранним утром Катя сбежала от него с черепаховой своей сумкой, оставив записочку: «Не могу. Прости». Во сне он слышал, как стукнула за ней калитка.
На сей раз документы из института он забирал совсем. Декан пожал ему на прощание руку и сказал: «Ну что ж». И уезжая, он звонил тогда Кате с вокзала, и она прибежала в тапочках с черными помпошками на тот перрон.
Вот и все.
И снова ему повезло. В Москве поступил, куда и хотел, — в полиграфический, на графику. Рисунки его морские понравились. Кто бы мог подумать?
В общежитии поначалу тоже было хорошо. Леонардо — конструктор, Джоконда его — не поэзия. Первые два курса только и делали — разговаривали. Что же, если не поэзия-то? — Инженерная загадка, шарада в светотени. Любил Джоконду, но соглашался. Нравилось, что никто не ахает по чужим рецептам. Интересные были ребята… И он тоже не молчал: «Культура есть накопленные человечеством ответы на главные вопросы бытия!» Выразил. Потом, позднее, вспомнил: мысль-то Акимова! Правда, почему ж только на главные? На все, на все, что были заданы. Но здесь неважно было, чья мысль. Все — всех. Братство! Чай, водка, селедка. Все общее. И не спрашивали и не слушали толком, каждому знай свое выкрикнуть. Но по сути-то — суеты ему и хотелось, видимо. Снова положил ее, Катю, в кошелек, кошелек в сундук, сундук в подвал, а ключ от подвала потерял, забыл где-то, притворился (снова притворился), что забыл. Зато нашел себе на этих сборищах жену, красивую девушку, с красивыми ногами. Не зацапанную, не залапанную. Переживал, вишь еще, чтоб такую. Особенно было важно даже. Перебрался к теще, и вовремя, потому что общежитие все-таки надоело. Жена училась в балетном училище, молоденькая еще, заканчивала, и когда закончила, из-за него, из-за его учебы в институте, ее оставили в Москве, а когда закончил полиграфический он, из-за ее театра — его. Эту штуку они еще до свадьбы сообразили, сообща. К тому же у будущей тещи помирала как раз мать, старая старушка, жилплощадь пропадала и пропала бы, коли бы не он тут как тут. Так что и он был нужен, а не только ему.
Жена оказалась ничего, не злая. И работать их в училище научили. Могла. Теща тоже энергичная, московская, тоже как бы работяга. Устроила его с ходу в издательство, хоть и внештатником пока, но снова куда ему и хотелось. Вообще вдруг начало везти. «Потащило!» — сказал бы морской друг Миша. Будто Катя была якорь, а тут вот теперь открылся путь. Фарватер.
Рисовал.
Вставал в четыре утра и рисовал, пока все спали.