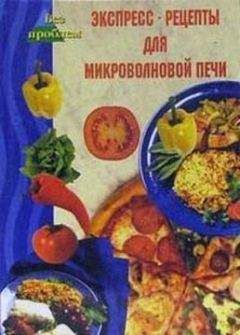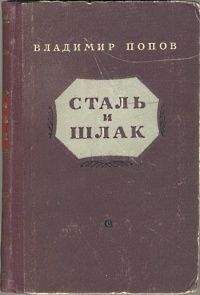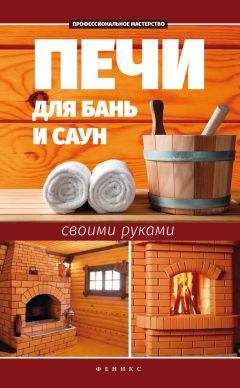Марк Гроссман - Гибель гранулемы
И все-таки Абатурин был почти убежден, что должен встретить ее здесь, нынче, сейчас же. Может быть, принимал свое желание за уверенность, а может, не хотел расставаться с надеждой, бог ведает.
Уже было совсем поздно, когда он увидел ее. Она поднималась к театру от Комсомольской площади и, заметив Павла, остановилась, настороженно вглядываясь в его лицо.
— Вы зря ходите за мной, — сказала она, нервно теребя сумочку. — Это даже неумно.
— Я не хожу, — потерянно отозвался Павел, и собственный голос показался ему чужим и фальшивым. Абатурин много раз видел воображением эту встречу, немножко пугался ее, но получилось совсем не так, как представлял себе. Вместо радости было чувство скованности и какого-то странного неудовольствия. Это было, разумеется, глупо, но он, кажется, злился на нее за то, что она — чья-то жена, злился так, будто она когда-то выбирала из двоих и выбрала того, «другого», а не его, Абатурина.
Павел, багровея, топтался возле женщины. Наконец пробормотал:
— Я увидел вас почти совсем случайно. Вы не верите?
— Нет, правда? — мягко спросила женщина, и в ее голосе на мгновение прозвучали даже нотки разочарования. — Тогда простите.
Павел не знал, что сказать еще — и потому спросил:
— Вы на дежурство?
— На дежурство? — удивилась женщина. — На какое?
— В диспансере. Где же еще?
— Вы что-нибудь знаете обо мне? — спросила она, и Павлу показалось, что голос ее снова стал неприветлив.
— Нет, но я думал, вы работаете в туберкулезном диспансере.
— Мне надо торопиться, — сухо заметила она. — Я просто гуляю.
Она бросила «прощайте» и, холодно кивнув головой, направилась вверх по проспекту.
«Куда же вы?» — хотел окликнуть Абатурин, но промолчал. Пусть идет, ни к чему все это.
В общежитии он никому ничего не сказал.
В последнее время Павел как-то незаметно для себя запустил свои студенческие дела — и теперь решил наверстать упущенное. Вечерами уходил в красный уголок и ночи напролет просиживал над учебниками по высшей математике и политэкономии. Он заметно похудел, и брови, казалось, еще ниже опустились на глаза.
Это беспокоило и сердило Линева.
— Все в меру делать надо, — ворчал он, косясь на осунувшееся лицо Абатурина, — и учиться в меру, и любить тоже. Не спишь ночами, а на работе качает. Поглядись в зеркало: сине под глазами.
— Ладно, — хмурился Павел. — Не сочиняй. Я свой план не проваливаю.
Страна нетерпеливо ждала, когда строители сдадут стан металлургам. Огромный цех, равный по мощности десятку крупных европейских заводов, должен был катать стальные листы и полосы. Тракторостроители, Уралмаш, предприятия Горького и Москвы уже планировали использование магнитогорского листа, и ЦК не простил бы Магнитке задержки монтажных работ.
Штаб стройки почти ежечасно передавал по радио сводки, и фамилия Линева все чаще и чаще упоминалась в них: бригада давала почти две нормы.
Возвращаясь с работы, Линев говорил Кузякину:
— Ты уж не подведи нас, Гордей Игнатьич, не пей пока. Знаешь, небось, что́ строим?
— Знаю, — отвечал Кузякин, — а и не знал бы, так все одно тебе не о чем беспокоиться. Негоже мне, старику, меньше вас получать. В кассе.
— Да не в том дело, — сердился Линев, — касса — кассой, да не все дело в ней. И не наговаривай на себя зря, Гордей Игнатьич. И ты ведь за дело болеешь…
— Ежели и болею, так то моя боль. Не агитируй.
Некоторое время шли молча. Потом Линев осторожно брал Кузякина под руку, спрашивал:
— Ты вот, как думаешь, Гордей Игнатьич, сколько металла стан за год накатает? Ну, скажем, если из этой стали трубы газопровода наделать, какой длины газопровод будет?
— На сто верст, — бездумно откликался Кузякин.
— Эх, ты! — укорял Линев. — Всю нашу землю по экватору охватят те трубы. «Сто верст»!
— Брось ты! — удивлялся Кузякин.
Бригадир еще сообщал Кузякину, что в новом цехе все будет автоматизированно и всюду будут работать телевидение, счетно-вычислительные и управляющие математические машины.
Было заметно, что слова Линева заинтересовали Гордея Игнатьевича. Медленно шагая по заводской дороге, он несколько раз оглянулся на стан и в удивлении покачал головой.
— О чем ты? — спросил Линев.
— Скажи-ка! — искренне удивился Кузякин. — Вон что могут наши руки. И мои, значит.
— А раньше знаешь, что на том месте было? Скала. Холмишко из камня. И вот мы с тобой пришли и на века громаду эту сработали. Все поближе к коммунизму. А ты — «касса»!
— Касса — коммунизму не помеха, — усмехнулся Кузякин.
В начале зимы темп монтажных работ сильно ускорился. Стан готовили к сдаче, и работать приходилось нередко в две смены.
На стройку теперь ходили в ватниках, ушанках и валенках: из южных степей летели к Магнитке быстрые и резкие ветры. На высоте угрюмо свистел сиверко, и стальные цепи монтажных поясов позванивали от его ярых порывов. Снег нарастал на бровях, жег глаза. По-настоящему удавалось отоспаться только в выходные дни.
В первое декабрьское воскресенье никто никуда не ушел. Все брились, приводили себя в порядок, за исключением Кузякина. Тот, охмелев, говорил Павлу:
— Опять на весь день в красный уголок? Гранит науки грызть? Смотри, зубы обломишь. И глупо.
— Что — глупо, Гордей Игнатьич?
— Вот станешь ты техник, скажем. Ну так что? Булки вместо хлеба есть будешь? На двух кроватях лежать? Или бабу какую необыкновенную возьмешь? Все одно, с какой спать.
— Спать, может, и все равно, — сухо сказал Абатурин. — А жить — разница.
Кузякин посмотрел на него с иронией, усмехнулся:
— Мне всякие попадались: и дуры, и умные. Один черт.
— Помолчи, — останавливал его Линев. — Не морочь человеку голову.
— А чего молчать? — крутил рыжей головой Кузякин. — Я не лишенный голоса.
Он стукнул себя кулаком в грудь, сказал с пьяной настойчивостью:
— Я тоже, Витька, коммунизм строю. А что пью — мой ответ, не твой. Дело мы одинаково делаем.
— Коммунизм? Ты раньше, чем на земле его строить, в душе окорени. А у тебя там, в душе, водочный дух, Гордей Игнатьич.
— Ну, ладно, — махнул рукой Кузякин. — Ребятешки вы, не понятен вам середовой человек.
Он задрал вверх побитую сединой рыжую бороду, предложил:
— Может, в козла сыграем? Не хуже других игра. Для головы легкая.
— До́бра, — согласился Блажевич. — Только ведаешь что? Ты не пей часто в общежитии. Тут нямо́жна.
— А где можно?
— Не ведаю где, — не очень уверенно отозвался Блажевич, вспоминая, что они тоже нарушали порядок и, случалось, выпивали здесь. — Дома, вось там мо́жна.
— Ну, вот, — ухмыльнулся Кузякин. — Это и есть мой дом.
Он высыпал на стол костяшки домино и, помешивая их, сказал весело:
— В окопчике косточки — первое дело. Ежели спокойно окрест, и брюхо не очень порожнее.
— Воевал? — спросил Линев.
— А то как же? — удивился Кузякин. — Даже на рейхстаг лазил. Кое-что написал им там на память, сукиным детям.
Абатурину было скучно играть в пустоватую слепую игру, где почти все зависело от случая. В паре с Линевым он проигрывал партию за партией и недоумевал, отчего так бурно радуется своему везению Кузякин. А тот, припечатывая тощей лапой костяшку к столу, сиял рыжими белками и подмигивал партнеру:
— Он ремесло свое знает, Кузякин. Разве ж нет?
— Руки золотые, адна́к гарэ́лка тебя губит, — вздыхал партнер.
— Ты — стригунок, — отмахивался Кузякин от Блажевича, — первая голова на плечах еще и шкура не сечена. А я огонь, воду и медную трубку прошел.
— Як самогон, значит? — усмехался Блажевич.
— Зна-аешь! — заключал Кузякин, и по его тону трудно было понять, иронизирует он или хвалит.
— Зачем вы из дома ушли, Гордей Игнатьич? — спросил Абатурин, невнимательно поглядывая на квадратики домино. — Детишки есть, и угол свой. Разве ж нельзя помириться?
— У каждого характер свой, и горе свое, следовательно, — пожал плечами Кузякин.
Он быстро трезвел, и по мере того, как улетучивалось опьянение, голос его становился тише, и сам он тускнел, как затухающий уголь.
Тоже теряя интерес к игре, часто высасывая дым из папиросы, говорил, больше обращаясь к Абатурину:
— Вишь ты, плохую жену взять легко, да ужиться с ней трудно. Известно, куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. А у меня такая была — и черта уходит. Шкодила, вроде весенней кошки. И мальчонков моих издергала, никакой совести.
— Сам заварил кашу, небось, — сухо заметил Линев.
— Может, и так, — хмуро согласился Кузякин. — И я не гладкого склада. Вот и ушел — обоим лучше.
— А как же она?
— А чего ей сделается? Второго мужа донашивает.
— Детей жалко, — искренне покачал головой Абатурин. — Они-то ни при чем, мальчишки. Тянет к ним?