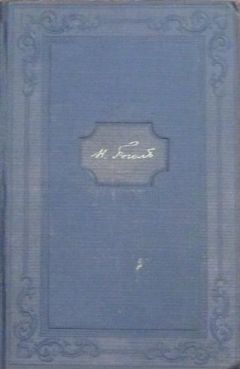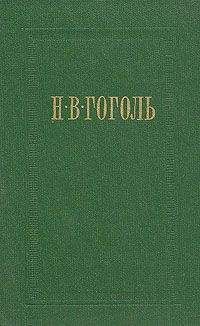Сергей Снегов - Взрыв
Он не кончил: взбешенный Камушкин исступленно срывал с него респиратор. Ошалев от неожиданности, Синев еле защищался. Когда прибор был уже у Камушкина, Синев вне себя от ярости вцепился в его руку. Тот отшвырнул его от себя и сказал:
— Беги, трус! Респиратор тебе не нужен… Вызваны горноспасатели, расскажи им о гезенке и квершлаге. И торопись, пламя прорвалось по исходящей струе на верхние горизонты, вентиляционные двери сорваны.
Говоря это, он торопливо закреплял на себе респиратор. Синев в ужасе снова вцепился в его руку.
— Хоть самоспасатель дай! — молил он. — Пойми, Павел, не доберусь я до устья.
Камушкин опять оттолкнул его.
— Беги, сволочь, направляй людей! — крикнул он, лихорадочно продевая ремни в застежки.
Синев схватил свою лампочку, валявшуюся на земле, и понесся в сторону устья. Теперь он мчался изо всех сил, даже от взрыва он так не убегал. Грозные слова Камушкина о прорвавшемся вверх пламени и разрушении вентиляционных дверей были ему до ужаса понятны. Нет, опасность не кончилась, она только начиналась. Раз двери разрушены, значит вся система проветривания шахты спутана: на каждом ходу, на каждой развилке ходов его мог подстерегать очаг окиси углерода, мешок углекислоты, облако метана. Что бы это ни было, теперь это значило одно: смерть. Он жадно заглатывал воздух, воздух был чист, Синеву же казалось, что яд уже проникает в его кровь, сочится в его легкие.
Он мчался, не различая дороги, ему даже в голову не приходило, что он может заблудиться: он мог в полной темноте обойти всю шахту, не пропустив ни одного уклона. И все же он ошибся, хотя это уже зависело не от него. Он решил сократить путь — главная штольня в этом месте петляла, он кинулся по короткому пути — через вентиляционную печь. В спешке он даже не заметил, что воздух в печи недвижим и затхл. Только, когда свет лампочки упал на развороченные бревна и груды земли, он понял, что произошло в этом месте — обвал завалил проход на свежую струю. В смятении он ринулся в боковой ходок: он не хотел возвращаться обратно, боялся потерять новые бесценные минуты. На этот раз он попал в тупик, ходок был незакончен, нужно было свернуть в следующий — он знал это, но в страхе забыл. Он повернул назад, побежал еще быстрее. На него пахнуло свежестью, где-то далеко забрезжил рассвет — сияние ламп дневного света. Это было устье. Но он не добежал до устья. Страшный отдаленный рокот потряс своды, судорога свела землю. На Синева стали валиться кусочки породы, бревна крепи затрещали. Потом все сразу обрушилось — своды и стены. Он видел, как падали на него гигантские стояки, как летели в облаках пыли доски. Опрокинутый на землю, он даже успел заметить, как над его головой сомкнулся новый свод — зацепившиеся одна за другую балки. Разбитая лампа погасла. Синев лежал на том же месте, протягивая в разные стороны руки — пальцы всюду упирались в бревна и землю. Он знал, что всего в нескольких метрах от него сияли лампы, тихо шелестел ветерок свежей струи, там скоро появятся люди — спасатели, он даже голоса не сумеет им подать, ничто теперь не выручит его из страшного этого склепа. Он потерял сознание.
5
Когда разразился взрыв, Камушкин был на второй капитальной штольне — по ней протекала исходящая струя несвежего воздуха. Он издали услышал удар, гулко и мощно пронесшийся по горным породам, затем стал приближаться шум несущегося пламени. Камушкин успел вбежать в боковой ход — вентиляционную печь, — приник к земле у самой двери, прикрыл шею и голову руками. Пламя промчалось мимо печи голубоватым сиянием, один его короткий язык лизнул стены, упругий удар нагретого воздуха потащил Камушкина по земле и бросил на рухнувшие двери. И сейчас же мощный поток свежего воздуха, сметая пыль взрыва, устремился вдогонку за пламенем.
Камушкин, оглушенный воздушным толчком, с трудом поднялся и кинулся ставить упавшие двери. Но разрежение, образованное уносившимся пламенем, со страшной силой вытягивало воздух из откаточной штольни. Мимо Камушкина неслась буря, ветер опрокидывал его, ослеплял и оглушал. Камушкин работал ожесточенно, он разрывал кожу на пальцах в брезентовых рукавицах, ломал ногти, время не ждало: если он немедленно не поставит дверей, свежая струя ринется по новому — короткому пути, и там, внизу, в районе взрыва, где сейчас распространяются его продукты — ядовитые газы, раненые и задыхающиеся люди останутся без живительного притока кислорода. Он видел этих людей, слышал их крики, их мольбы о помощи — рыча от бешенства, он исступленно боролся с вырывающимися у него из рук под мощным давлением ветра плотно склепанными досками. Особенно трудно было поставить вторую половину сорванных дверей — в оставшееся узкое отверстие лилась целая река бешеного воздуха. Он справился и со второй половинкой, воздушная струя оборвалась, словно отрубленная топором. Камушкин, разом обессилев, прислонился телом к двери, жадно дышал, ноги его гнулись и расползались в стороны. Это состояние длилось недолго, он пришел в себя, еще не успев свалиться, снова бросился к дверям. Теперь он закреплял их, чтоб они не распахнулись и не упали ни сами собою, ни во время нового взрыва. Потом он бросился на свежую струю.
Он спешил не к устью, не к спасению от опасности, а вниз, в места, где произошел взрыв. Мимо него в смятении бежали бросившие работу люди, они окликали его, хотели увлечь с собою — он не отвечал им, даже не всматривался в их лица. Ему было не до них: далеко внизу, в самых опасных горизонтах шахты, гибли люди, он должен быть там, должен спасти их, ничего другого он не понимал.
Только в одном месте он оборвал на минуту свой яростный бег. Он сорвал со стены трубку взрывобезопасного телефона, вызвал управление. Ему ответил взволнованный голос Семенюка.
— Сынок, сынок! — сказал Семенюк отчаянно. — Ради бога, что у вас случилось?
— Иван Сергеевич, я на двести двадцатом! — крикнул Камушкин. — Взрыв где-то ниже. Самое главное — закрыть верхние печи, а то на низу не хватит воздуха. Что вы предпринимаете?
— Зараз спускается первая партия спасателей, — донесся голос Семенюка. — Хоть бы одно знать — что с людьми, где они? Сам ты будь осторожен, сынок!
Страшное известие, переданное Синевым, только усилило энергию Камушкина. За пятым штреком он вступил в зону отравленного воздуха, свежая струя разбавляла его, гнала вниз и там — через открытые нижние печи — выбрасывала наружу. В этом месте дышать было трудно. Камушкин побежал еще быстрее. У развилки ходов, где Ржавый собирал своих людей, уже никого не было, все убрались в гезенк. Помочь им Камушкин сейчас не мог, да они и не нуждались в его помощи, он знал уже, что взрыв произошел в другом месте. Только там, в узком ходке, где он оставил Скворцову, где работали отпальщики, еще могла понадобиться его помощь. Он помчался в семнадцатый квершлаг.
Его лампочка осветила страшную картину происшедшего взрыва — разбитый, вздыбившийся к потолку транспортер, покрытые густой копотью стены, воздух, туманный от взметенной и еще не осевшей пыли. Метрах в двадцати от входа он увидел Машу. Маша лежала на спине, тело ее выгибалось в судороге, одна рука разрывала воротник брезентовой куртки, другая скрюченными пальцами хватала мертвый воздух. Камушкин кинулся к Маше, сунул ей в рот трубку респиратора. Ему самому не хватало кислорода, он дышал часто и жадно, но даже не обратил на это внимания. Он ожесточенно и лихорадочно боролся за жизнь девушки, то давил обеими руками на ребра, чтоб восстановить дыхание, то старался поднять ее завалившуюся голову, то зажимал ей нос. Судорога, ломавшая тело Маши, стала спадать, она вытянулась на земле — он принял это за агонию. Он еще неистовее продолжал восстанавливать ее дыхание.
Сознание возвратилось к Маше чувством испуга. Ее лицо жалко перекосилось от ужаса. Она приподняла голову, заметалась. Руки ее поднялись ко рту, она пыталась вырвать трубку, давилась ею, словно это была затычка, а не клапан, исторгавший живительную струю. Камушкин надавил на ее плечи, сжал руки. Делая резкие быстрые вдохи из самоспасателя, он возбужденно и бессвязно кричал:
— Лежи, лежи, Маша! Все в порядке, понятно? Сейчас пойдем, сейчас! Отвечай глазами, вот так. Здесь болит? Хорошо. Здесь? Здесь? Ни одной ногой не можешь пошевелить? Ничего, ничего! Говорю — ничего! Лежи, лежи, глупая же, лежи! Я понесу тебя. Вынесу, не бойся.
Он поднял ее на руки, осторожно понес. Выйдя на чистую струю, он прошел несколько шагов вверх. Здесь воздух, хотя и наполненный углекислотою, был чище, можно было — с трудом и недолго — дышать без самоспасатель. Камушкин положил Машу на землю, склонился над ней, осветив ее лицо.
— Полежи одна Минуту-другую, — сказал он. — Я вернусь, посмотрю, как отпальщики. — Лицо ее исказилось, она в страхе ухватила его руками, ее ужаснула мысль снова остаться одной во тьме. Он успокаивал ее, как больного ребенка, гладил ее по щеке. — Ну, ну, не надо! Приду, сейчас же приду. Неужто же покину?