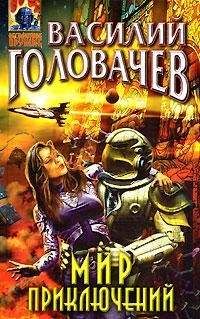Юрий Федоров - За волной - край света
Судейский разглядывал в рюмочке хрустальный напиток, изморозью одевавший стекло, когда подошел к столу старший приказчик Лебедева — Ласточкина.
— Ах и ах! — воскликнул крючок, привставая. — Наслышаны, наслышаны… Из столицы, из столицы к нам пожаловали… Прошу… Прошу…
От восторга глаза у него разбежались в разные стороны, вновь сошлись, опять разбежались, и чувствовалось, лишь с огромным усилием устремил он их на нового знакомца. Рад был очень.
Дальше все пошло так, как и задумал крючок.
— Ах столица, столица, — пел судейский, — и что за люди столичный народ, — губы сложил сладко. И дабы характер лебедевского приказчика вызнать, как дятел в гнилую сосну, стукнул потихоньку, на пробу, в больное для многих честолюбие. — Молодцы, — пропел, — молодцы… — Чуть–чуть стукнул: ан зашуршит под корой червячок? Почувствовал: теплом потянуло. — Столица, столица, — поднажал крючок, — всей России голова. — И затих, прислушался вновь. Да все подливал и подливал из графина.
У нового знакомца на лице некое довольное движение появилось. Тут уж, не сдерживая голоса, крючок защебетал:
— Будь столичный и в толпе, а разом приметишь. Как идет, как голову держит. Учиться, учиться нам след. — И опять прислушался. Ну точно дятел на сосне. Тот ударит и прильнет телом к стволу: обозначился червячок аль нет? Но вот почуял: побежали, побежали жучки, букашечки. Тогда все — расшибет, расклюет длинноносый кору и добычу достигнет.
Так и судейский увидел: заулыбался, заулыбался от похвалы приказчик. Крючок возликовал. Метнул пронзительным глазом на полового. Тот взмахнул полотенцем, и у столичного новая рюмка оказалась, и много при этом больше прежней. А судейский уже графинчик над ней наклонил.
— Да и с каким народом вам приходится знаться в столице. Вокруг все люди знаменитые.
— Так, так, — ответствовал приказчик. — Знакомцы знаменитые, конечно, есть. Как не быть… Вот, например, Михаил Петрович… А попросту сказать — Миша.
— Неужто знакомы? — изумился крючок и голову нагнул, будто его по затылку тяжелым хватили, — Михаил Петрович… Действительный статский советник. Генерал… Ваше превосходительство…
— Да что Миша. — Приказчик рюмку опрокинул в горло и, легко передохнув, сказал: — И с иными знаком.
И назвал имя, что и произносить страшно.
Крючок только несмело пальцем вверх потыкал:
— Это который…
— Да, да, — подтвердил приказчик и вновь руку к водочке протянул. Крючок прямо в ендову ему наплюхал.
— Да я, да мы, да они. — Лебедевского приказчика, после столь емкой посуды, понесло по всем кочкам, как это часто со столичными случается, когда дойдет до выпивки за чужим столом да за чужие денежки.
Крючок твердой рукой вновь ендову ему набултыхал. И в другой раз метнул взгляд на полового. Тут уж поволокли и вареное, и печеное, и жареное.
— Эх! — воскликнул крючок лихо. — По–купецки гуляем, по–купецки расплачиваемся! — И швырнул половому пачку денег. — Неси, что есть, да всех к столу зови!
Широко загулял человек, по–сибирски. К столу начали подходить купцы, случившиеся в кабаке.
Через некое время незаметно, в шуме и забавах застольных, судейский тихо, тихо отошел к дверям кабака. Вроде бы воздушку захотелось хлебнуть. К нему незаметно посунулся человек.
— Гони обоз, — трезвым голосом сказал судейский, — не медли минуты. На завтра, бают, пурга. А я купцов денек придержу. Дороги заметет, и они и неделю, и другую здесь просидят. Гони!
Человек шатнулся в сторону, вышел из кабака, упал боком на стоящие в тени сани, свистнул, и кони пошли во весь мах.
Судейский вернулся к столу. Поднял ендову:
— Хорошо гуляем, купцы, — крикнул, — по кругу ее! — и передал ендову приказчику Лебедева — Ласточкина.
У того глаза начинали пучиться, но он ендову принял и припал жадными губами к широкому краю.
* * *«Хок–хок–хок!» — кричит каюр, и собаки летят по крепкому насту. Распластывают тела. Хвосты поленом. «Хок–хок–хок!» — звенит в морозном воздухе голос. Снега переливаются многоцветием красок, яркими темно–синими пятнами мелькают тени у торосов, а сами вершины вздыбившихся льдин вспыхивают в косых лучах горящего у горизонта алого солнечного шара, как факелы. «Хок–хок–хок!» — торопит каюр. Ветер свистит в ушах, поют полозья, гремят собачьи голоса. И снег, сверкающий снег, без конца и края…
Григорий Иванович словно въяве представлял это. Многокрасочный и многоголосый Север не оставляет равнодушным увидевшего сей край, хотя бы и раз. Песни торосов, высвистывающих, вызванивающих при самом легком движении воздуха, западают в человеческую душу, тревожат и беспокоят и через годы. Не раз на Кадьяке Григорий Иванович говорил: «Торосы–то, торосы поют, что рожок курский». Торосы и впрямь выпевали пастушью песню. Нежно, тонко, грустно. Заведет на одной ноте — у–у–у. Однако звук этот, и негромкий и однообразный, а так много вдруг напомнит, о таком расскажет, что сердце защемит, и человек остановится, замрет, глубоко пораженный ранившей мыслью.
Север забыть нельзя.
Шелихов отправил галиот с хлебом на новые земли. Как ни хитрил, ни изворачивался Кох, но хлеб Григорий Иванович взял в амбарах, и галиот ушел. Теперь, покончив с тем, что отнимало все помыслы и время, Шелихов один на один остался с давней мечтой. Ан не выплясывалось задуманное. О таком говорят: хотелось бы пудами, но и горстку не дают.
Еще на Кадьяке, в долгие ночи, вспоминая прочитанную в детстве летопись ученого дьяка Момырева и особо памятную главу из нее «Хождение купца Афанасия Никитина в Индию», Григорий Иванович замыслил описать путешествие своей ватаги к матерой земле Америки. Хрупкие листы момыревской летописи, дивные рисунки, начертанные искусной рукой буквицы подталкивали и подталкивали: дерзни, разгорись сердцем! Но перо, казалось, цеплялось за бумагу, а слова из–под него выходили совсем не те, что думалось. Не было видно за ними ни людей, ни собак, летящих по залитому солнцем снежному насту, ни пылающих торосов. И дел, свершенных людьми, не было за ними. Так, буквы лепились одна к другой, и все.
Сидел ночами. Плавилась свеча. И в иную минуту мнилось: вот–вот, в следующий миг, выйдут из–под пера слова, как те, момыревские, что рассказали ему в детстве о сказочных конях, скачущих в мареве у окоема, о людях в невиданных одеждах, о дороге, уходящей вдаль. Такие слова, что погнали его, мальца, на городскую колокольню, дабы увидеть тех людей, коней и саму необыкновенную дорогу вдали, за рекой. Но нет, не рождались такие слова, а он все гнулся и гнулся над столом.
Входил комнатный человек, снимал нагар со свечей, смотрел через плечо хозяина. На бумаге строчки, что муравьи на бересте.
— Глаза тратишь, — говорил, — да уж котору ночь.
— Ты спи, — обернется Григорий Иванович, — спи.
— Спи, спи, — возразит старик, обутый для тепла в валеные обрезочки, — спи. Прошлый раз сам уснул за столом. Ну, а кабы свечу уронил, а я не досмотри? — Глаза становились испуганными. — Пожар?
— Спи, старик, — скажет Григорий Иванович.
Комнатный человек зашаркает обрезочками и затихнет. Тишина установится в доме, лишь ровно гудит пламя в печи. А долгожданные слова не приходят. Нет, не приходят.
Григорий Иванович садился на корточки у пылающей печи, обжигая пальцы о раскаленный чугун, растворял дверцу.
Печь дышала в лицо жаром, терпким дымком горящей березы. За пламенем, широко и сильно утекающем в трубу, проглядывали прокопченные кирпичи. Они сдерживали, обжимали бурливый и мощный поток, направляли его, но огонь все одно бился и плясал, вихрился, взбрасывался, играл и в тесных этих объятьях. В нем угадывалась сила и неудержимое стремление раздвинуть сжимающие пределы, вырваться и лететь, лететь, не зная преград. «Не потому ли так жадно и подолгу смотрят люди в огонь, — думал Шелихов, — что им передается вот эта его необоримая сила, вечная непокорность?» Вольное пламя поражало воображение Григория Ивановича.
Шелихов вновь садился к столу, брал перо.
Глядя в огонь, он отчетливо видел лица ватажников. Погибших в походе Степана и Устина, Деларова и Бочарова, продолжавших начатое ими дело на новых землях. Кондратия, Кильсея… Видел их висящими на вантах галиота в жестокую бурю, в сполохах пурги, в пенных гривах взбесившихся волн. Они были тем же самым огнем — неудержимым и всепобеждающим. Они рвались вперед, как пламя, и ежели и сгорали, то и смерть их была огненной вспышкой, высвечивающей дорогу для идущих следом. Да и распахнувший перед ним, мальчишкой, дорогу в неведомую, но неизъяснимо манящую даль ученый дьяк Момырев представлялся ему все тем же могучим огненным сполохом. «Нет, — думал он, — то необычные люди. Тлеть бы мне в вонючем подвале, ежели бы дьяк этот не взял за руку и не повел за собой. А кто бы шагнул за обозначенные пределы, коли не сделали бы этого Степан и Устин?»