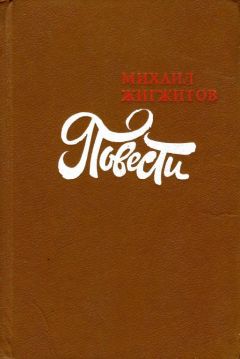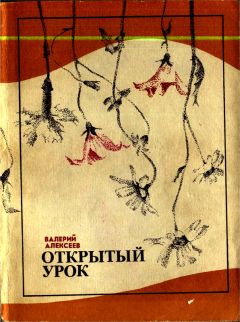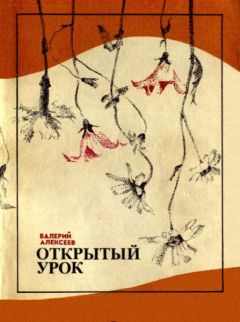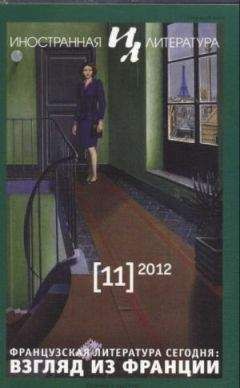Владислав Леонов - Деревянное солнышко
Бабкин второй раз на сборке, но еще никак не привыкнет, еще и теперь ему хочется пригнуть голову: кажется, что недобрые крюки кранов идут над самой макушкой. Бабкин вообще не любит, когда над головой вместо неба крюки, а под ногами не земля — бетон.
Он пробирался через гул и скрежет, сквозь синие огни сварки к сборочному участку. Вокруг пахло окалиной, горячим железом, машинным маслом.
На стендах возле мощных остовов дизелей двигались люди. Это все молодые ребята в коротких халатиках и в беретах набекрень. Они, скорее, похожи на ученых либо на подводников. Глядя на них, Бабкин ощутил, какое это непростое слово — рабочий. Он не знал, как подступиться к занятым ребятам, и выбрал пожилого слесаря, который в сторонке орудовал напильником. Слесарь этот здорово напоминал «опытного седого» Ивана Петрова такой же маленький и сердитый. Только был он заметно косоплеч, как и все старые слесари, не знавшие машин и вкалывавшие вручную — кто слева направо, кто справа налево.
— Пашка? — переспросил он Бабкина. — Нету Пашки! Он вроде бы на испытательном.
Откуда-то из железной дыры дизеля, словно чертенок из пекла, вынырнул остренький паренек, похожий на Саныча.
— Нету мокренького на испытательном! — хихикнул он. — Сбежал оттуда сопливенький! Шумно ему показалось! Ищи его у хозмастера! — И паренек опять пропал, как растворился.
Бабкин отыскал владения хозяйственного мастера в углу цеха, под крутой железной лестницей. Тут, возле толстых горячих труб, убегающих куда-то наверх, стояли метлы да лопаты. На ящике с песком сидел в компании уборщиц механик и загибал что-то такое, от чего бабы хохотали навзрыд, приговаривали: «Ой, да ну тебя совсем!»
Они еще трясли плечами, когда механик увидел Бабкина и вскочил. Он обжег ладонь о трубу и, морщась, замахал рукой.
— Где Пашка? — спросил Бабкин, стараясь не глядеть в сторону недруга, но глаза сами по себе сворачивали на ненавистное побледневшее лицо.
Утирая слезы, одна из женщин сказала Бабкину:
— На дворе он, Пашка-то.
Другая добавила:
— Он, милый, нашего заводского климата не переносит. Такой болезный.
Бабкин сердито поковылял к узкой дверце. Это — черный ход огромного цеха. В широкие парадные ворота вплывали на платформе заготовки и уходили собранные, промасленные, закутанные брезентом дизели, черный ход вывел Бабкина на пыльную траву пустыря.
Бабкин увидел гору шлака, а на самой верхушке ее сидел сборщик Павлуня, и спина у него была тощая, грустная. Он смотрел на близкие поля: с кучи они казались ему изумрудными, праздничными. Розово светились крыши теплиц, стояли на пастбище пестрые коровы, жучком бегал по морковке красный шассик, а вдали, у лесной полосы, мощно и высоко била водяная пушка. Даже старая Климовка со своими низкими крышами и утренними задумчивыми дымами ласково манила Павлуню. Он сморщил нос, отвернулся и увидел Бабкина.
— Миш, а Миш, — сказал он, мучась улыбкой, — во-он наше поле...
— Слезай-ка, Пашка, — ласково приказал Бабкин.
Павлуня скатился с горы, встал перед Бабкиным, поглотал-поглотал что-то и начал объясняться:
— Я вот все думал, как ты вот теперь один...
— И надумал? — спросил Бабкин. Павлуня кивнул. Звеньевой весело сказал ему: — Ну, пошли заявление писать!
Павлуня глубоко вздохнул, подтянул губы, нахмурил брови и ответил:
— Всегда готовый!
ЗАПАХ ПЕРВОЙ ЧЕРЕМУХИ
Совхозный механизатор должен знать любую технику — от комбайна до велосипеда. Павлуня, хоть и не совсем, но перенял у брата часть его жадной страсти к машине. Он разбирался в ней, правда, много хуже Бабкина. Бабкин, завидев новую технику, немедленно устремлялся к ней, Павлуня робко терся позади.
Вот и теперь, выйдя из проходных завода к мотоциклу, Павлуня сразу же уселся на заднее сиденье.
— Нет уж, ты давай впереди, — предложил ему Бабкин место водителя.
Павлуня пожал слабыми плечами:
— Да я, Миша, не очень ведь...
На это Бабкин серьезно и тихо ответил:
— А я, Пашка, совсем! — и показал на несчастную ногу.
Павлуня посмотрел, поморгал и наконец сообразил:
— А-а, мне и ни к чему... — Они поменялись местами с Бабкиным, Павлуня вывернул мотоцикл на дорогу и успокоил брата: — Ничего, авось совсем до смерти не разобьемся.
Климовская дорога ровная и тихая, ни машины на ней, ни трактора, один Трофим изредка пропылит на своей Варваре. Поэтому Павлуня через каких-то полчаса благополучно довез Бабкина до морковного поля.
Пока Павлуня ехал, ветерок остудил его голову, и возле сторожки он слез с мотоцикла уже не взмыленным мальчишкой, а сурово насупленным взрослым человеком.
— А, Одиссей! — встретил его Боря Байбара, спрыгивая с шассика и вытирая руки ветошью. — Как твои странствия? Завершились?
— Ладно тебе уж, — пробормотал Павлуня и прямо с жесткого седла мотоцикла полез на привычное, примятое по телу сиденье шассика.
Боря Байбара подсмеивался.
— Ты, чай, позабыл, где у него руль-то?
— Чай, не забыл! — сощурил глаз Павлуня. Он заученно и легко щелкнул рычагом, отжал педаль, шассик побежал ровно.
Петровны из-под ладоней смотрели ему вслед.
— Помнит, теткин сын, — пробормотал Бабкин и повернулся к Боре: — Раз выручил — выручай в другой: домчи меня в больницу — сил нет.
У директора совхоза до больницы не дошли еще руки, поэтому была она пока маленькая, деревянная, хотя запах в ней стоял настоящий, медицинский. Байбара домчал Бабкина до крылечка, проводил его в приемный покой и, поглядев некоторое время на расплывчатые тени за матовым стеклом, по стеночке выбрался на улицу. В голове у него плыло, от запаха больницы мутило.
А в белом кабинете молча смотрели друг на друга Бабкин и Чижик. Он стоял перед нею, пыльный и неловкий. Она сидела возле тумбочки, опершись на нее локтем. Девушка по жаре была босоногой. Она, как ребенок, положила ногу на ногу, мягкие комнатные тапочки стояли под табуреткой. В сверкающей ванночке вместо иголок и шприцев насыпаны тыквенные семечки. Из раскрытого окна в кабинет летели занавески и птичьи голоса.
Когда Бабкин вошел, Чижик не стала прятать семечки, не запихнула ноги в тапочки, не тронулась с места, не кивнула — смотрела на него опухшими, заплаканными глазами.
Железные скулы Бабкина растеклись, крепкие маленькие губы растаяли, весь он сделался вдруг рыхлым и несильным. Вспомнилось Бабкину, как загораживалась от него девушка локтем.
— Не хотел я, — сказал он, прижимая к сердцу соломенную шляпу. — Я, честное слово, Пашку искал.
— Противный, — ответила детским голосом Чижик. — Какой же ты противный! Ненавижу! Брови твои рыжие ненавижу. Глаза узкие... Нос горбатый... И губы твои...
Тут девушка посмотрела, какие же у Бабкина губы: они были бледные, закушенные.
— Ой! — сказала она, вскакивая. — Ты что, Бабкин?
— Нога, — прошептал он.
— Покажи! — приказала Чижик.
— Да нет, — прятал ногу Бабкин. — Лучше доктор!
— Не рассуждай. Сядь!
Покачивая головой, поцокивая языком, она осматривала его закрасневшую ссадину. А Бабкин боялся дохнуть на кудряшки, от которых еще пахло парикмахерской.
Девушка встала, отодвинула семечки, засунула ноги в тапочки и полезла в шкаф. Когда она пошла к Бабкину со шприцем, он поспешно сказал:
— Мне бы порошков каких!
Но понял, что сопротивление бесполезно: ему в глаза смотрела не раскисшая девчонка, а медицинская сестра. И Бабкин, не дрогнув, вытерпел перевязку, храбро принял сыворотку и, подтягивая штаны, спросил, когда можно идти работать — теперь либо после обеда.
— Шустрый какой, — сказала ему девушка и понеслась по коридору, не как обычно, вперевалочку, а озабоченно, стремительно. Халатик, не поспевая, летел за ее быстрыми коленками.
Бабкин подошел к зеркалу. Ему очень не понравился вспотевший мальчишка с полуоткрытым ртом. И, пока не было Татьяны, он привел себя в порядок: пригладил, сколько возможно, сердитые свои волосы, утерся платком, напустил на лицо солидность и независимость.
Но Чижик не обратила внимания на эти перемены. Она положила перед ним синий больничный листок и сказала:
— Через три дня покажешься.
— Я бы с удовольствием, — вздохнул Бабкин. — Но у меня Пашка один, у меня морковь. Ты мне такую мазь, а? Чтобы как рукой!
— До свидания, Бабкин! — сказала девушка. — Иди лечись! Вот тебе на дорожку семечки.
— Спасибо. — Бабкин остановился возле стеклянной двери.
Чижик села у тумбочки, положила на нее локоток, снова стала грустной. Бабкин тихонько притворил за собой дверь.
На скамеечке, под акациями, томился Боря Байбара.
— Ну, как? — спросил он, подымаясь. — Кололи?
— Еще как, — ответил Бабкин, недовольно хрустя больничным листом и запихивая его в карман.
— Ничего, — стал утешать его комсорг. — До свадьбы заживет!
Бабкин вздрогнул и оглянулся на окошко, в котором сидела девушка. Он увидел, как ее подсохшие было глаза снова набухли и потекли.