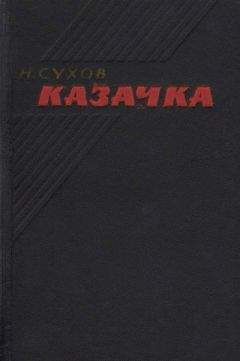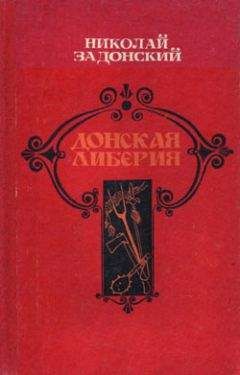Николай Сухов - Донская повесть. Наташина жалость [Повести]
Варвара поправила платок и, боязливо озираясь, свернула к берегу. Филипп бросил ведра, одернул засученные штаны и поспешил навстречу. Она несмело подошла к нему, и он испугался ее растерянного лица. Под глазами — синие густые дуги; глаза мутные, заплаканные; когда-то пухлые губы теперь тонко обрезались и чуть заметно вздрагивали. «Эк ты, девка… здорово захирела», — подумал он и, стараясь ободрить ее и себя, развязно спросил:
— Ты что, Варя, топиться, что ли, собралась? — и улыбнулся одними глазами. При ней он никогда не обнажает зубы — стесняется своей преждевременной щербины. — Подожди топиться, небось жизнь получшает.
Она попыталась было ответить улыбкой, но губы ее только покривились, и от этого лицо ее стало еще более жалким.
— Тебя, Филя, сейчас арестуют, — сказала она не своим, странно изменившимся голосом, а из-под век по впалой щеке проползла слезинка.
От злобы у Филиппа помутнело в глазах. «Вот оно… начинается», но сказал спокойно, твердо:
— Уж раз ты, Варя, упредила, значит, не арестуют. Не успеют.
Она с трудом подняла глаза, недоверчиво посмотрела на него долгим, как бы прощальным взглядом, и к горлу у Филиппа подкатил щекочущий комочек. Но он сурово сдвинул брови и поиграл скулами.
— А ты, Филя, напрасно меня обидел. Я-.- я… — Варвара хотела сказать ему все сразу, но слова глотались вместе со слезами, и она ничего не сказала. — Мне… я… Мне нельзя стоять. — Она закрыла лицо платком и, вздрагивая плечами, отвернулась.
На языке у Филиппа трепетало что-то ласковое, утешающее, но язык будто прирос к нёбу — так и не повернулся.
Шатаясь, Варвара пошла куда-то в переулок, на зады.
Степан Ильич, опершись о вилы, удивленно смотрел на них, пялил глаза. И когда Варвара скрылась за сараем, он лукаво пощупал бороду, спросил:
— Чего это она? Избил ее, что ли, кто?
Филипп вспыхнул, бросил в сердцах:
— Избил! Кто там избил! Скажешь чего… Арестовать меня вздумали. — И, увидя испуганное лицо старика, размяк: — Да ты не бойся, пока ведь ничего не случилось, работайте одни. Сейчас мать придет, а я пойду. Как-нибудь управляйтесь без меня. — Он придвинулся к отцу вплотную и шепотом сказал ему еще что-то…
Степан Ильич сгорбился, скорбно опустил седую нечесаную голову.
— Филя, что ты делаешь! Ведь мне на люди показаться нельзя: все тобой в глаза тычут. Я все молчал. Атамана ты хотел избить, с казаками не ладишь. Филипп усмехнулся:
— Ничего, батя, потерпим. Все перемелется, мука будет. — Он подошел к Захарке, шутливо надернул ему на глаза козырек отцовской линялой фуражки. — Ну, братушка, оставайся тут… за меня хозяйствуй. — Хотел сказать ему еще какую-то шутку, но вдруг отвернулся, скрипнул зубами и торопливо зашагал…
Степан Ильич глянул ему вслед, ресницы его дрогнули, и снова старик вяло задвигал вилами. На душе у него было пасмурно, тяжело, так тяжело, что не хотелось на свет смотреть. Нет, думал он, радости в жизни. Весь век прошел в волнениях да в тревогах. То за себя, когда был помоложе, то за сына. Ну, чему было радоваться, если сына на войне каждый день караулила смерть? Мало ли казачьих голов легло на чужбине! Теперь сын дома, и, казалось бы, живи спокойно, работай, поправляй хозяйство. Нет, не тут-то было: учинили между собой «волосянку». И будет ли конец этому?
На казачьи сходки старик перестал ходить. Да и как туда ходить: как покажется, обязательно к нему подсядет атаман иль кто-нибудь из его подручных и начинаются попреки. Стыдно-де старому казаку, сослужившему с честью царю-батюшке службу, не уметь «образумить» сына. Такие-де, как Филипп, позорят все казачество. Отец, мол, обязан взять его в руки. По совести говоря, старик плохо соображал, кто прав, кто виноват. Все спуталось, перемешалось. Но Филиппу он верил все же больше, чем кому-либо другому. Хотя опять-таки непонятно было: как это можно идти против власти? Никогда в жизни такого не приходилось ему слыхивать.
Едва Филипп скрылся с глаз, на переходе загромыхали доски. Полицейский прыгал по переходу сломя голову, и шашка на нем болталась во все стороны. На груди блестел большой медный круг-бляха, а на плече — белое пятно (видно, спьяна стер у кого-нибудь стену). Увидел на берегу Фонтокиных и повернул к ним.
«Скачет уж», — злобно подумал Степан Ильич.
С минуту полицейский крутил большим кривым носом, как ищейка, заглянул под берег, туда-сюда и тогда строго спросил:
— Иде Филипп? Атаман требует! — Голос у него пропитый, хриплый.
Степан Ильич снял росную снизу фуражку, поскреб в затылке.
— А его, паря, нет. Вишь ты, дело какое. А он толечки уехал на станцию. Вот толечки. — Он сказал это таким тоном, как будто очень сожалел, что Филипп уехал так не вовремя.
Полицейский подпрыгнул, крякнул:
— Когда ж он уехал? Ты, должно, запамятовал, отец! Мож, он дома? — И, сверкнув белым плечом, направился к воротам.
— Борзой, мать твою… всю жизнь пронюхал! — Степан Ильич поднял вилы и плашмя с силой ударил быка. — Цоб, черт рябой, куда ты все лезешь!
VIIХуторской объездчик Забурунный трясся на приземистом маштаке. Сегодня он решил осмотреть самые отдаленные степные участки, за прудовой балкой, подле слободских земель. Он не заезжал туда еще с весны. Скотина не заходит в такую глушь, посева там нет, а косить траву рано — воровать никто не станет.
Маштак лениво ковылял по заросшей острецом тропке (граница хуторского юрта), встряхивал гривой, на ходу пощипывал сочную зелень. Забурунный болтал кривыми ногами, свисавшими почти до земли, подталкивал маштака под пузо и на все лады тянул свою бесконечную, как сама степь, песню. Кое-где на кургашках чирики его упирались в землю — тогда он вскидывал ноги на спину маштаку и усаживался так, как садятся на лошадей во время купанья — упирая коленями в холку. А когда маштак останавливался и тянулся к кусту аржанца, вытягивая шею, Забурунный шлепал его своей громадной ладонью по заду: «Но, «жар-птица», чего нашел!»
Степь лежала притихшая, покорно-ласковая. Только что прошел сильный дождь. Впереди, насколько хватало глаз, в лиловом редком тумане, наперегонки бежали голубые, розовые, синие колокольчики и желтые одуванчики. Густой зеленый пырей, стоявший сплошняком, нежась на солнце, подбрасывал кверху набухающие чешуйки колосков. Широколистый татарник, что запутавшийся в повители стрепет, взмахивал при ветерке сивыми пухлыми крыльями, точно готовясь при полете вскинуть гордую, с красной маковкой голову. Поодаль маячил курган, весь укутанный бобовником. Угрюмый, с солончаковой плешиной, он, как седой заволосатевший пастух, строго и молчаливо охранял свои исконные степные богатства — табуны молодых буйных зеленей. Он охраняет их с тех далеких, незапамятных времен, когда дикие хозары, кочевавшие по этим глухим суходолам, поручили ему, под похоронный вой и танцы, прах своего вожака.
Забурунный тянул ту песню, о которой издавна сложилась присказка:
Казак на возу сена ехал с поля домой. Долгие версты качался он по пыльной жаркой дороге и все время пел одну и ту же песню. И песня эта была только одно слово: «Гвоздик». «Е-ей-аа… ой-да-ну-да-гво… Ей-гво…» Дорога тряская, но мягкая. Никто не встречается на пути и не обгоняет. Задремлет казак, уткнется в сено и забудет про песню. Но вот на кочке встряхнет его, он поднимет взлохмаченную голову, дернет за вожжи: «Но!» — и опять начинает: «О-о-их-и-и-во-ты-гво… Ей-гво…» Так и пел всю дорогу. И потом, когда арба уже уперлась оглоблей в ворота, казак вскочил: «Тпру!», матюкнул лошадь за недогадливость — нет чтобы остановиться в двух шагах от ворот. Ну, как же открывать? — и, передохнув, закончил песню: «..здик!»
Быть может, Забурунный тоже доехал бы до ворот со своей песней. Но вот нога его соскользнула со спины маштака, он накренился и увидел под копытами кизячные размытые дождем угли. «Хм! Кто же тут жег? — удивился он. — Как это… попали сюда?» Но его удивленье стало еще больше, когда он на фоне темно-зеленого аржанца увидел светлую полосу. Забурунный подъехал ближе, выпустил зажатого между ног маштака и, не веря глазам, пощупал землю: она была мягкая и податливая. Пшеничные всходы были свежие, сочные, густые. «Что за оказия, а ведь это хлеб! — Забурунный сорвал щепоть стебельков, засунул в рот, пожевал. — Как же это… Кто же сеял тут? Хм! Нешто сама как?..» Он, как сурок из норы, покрутил головой, проверил себя — не заехал ли куда-нибудь в чужое поле. Но все было на месте: вон и курган стоит позади, тот самый, подле которого в прошлом году он зарезал косой двух перепелок, а потом и косу в бобовнике отломил; вон и мысок блестит солончаковой хребтиной, будто солью кто посыпал; а за ним будет прудовая лощина, — сейчас ее не видать за мысом, — а там в семи верстах и хутор должен быть; вон и мельницы слободские вертятся, словно зазывают к себе: здесь, мол, мы. У Забурунного ворохнулось подозрение: «А не хохлы ли это настряпали?» И он из-под руки взглянул на маячившие вдалеке слободские халупы. «А ведь, должно, они». Натолкав «жар-птице» шишку на боку, он объехал полосу кругом. По его подсчетам выходило не меньше десяти сотейников. «Ну, само собой — это хохлы, кто же больше, — окончательно укрепилась его мысль. — Но как же мне быть теперь? Ведь атаман кожу с меня спустит. Что, скажет, смотрел!» Забурунный решил было не говорить атаману. Может быть, пройдет как-нибудь, не заметят. Но потом испугался: ведь косить приедут — все равно узнают, будет хуже. «Надо бежать». Он подобрал ноги, стукнул ладонью маштака по холке и помчался к кургану.