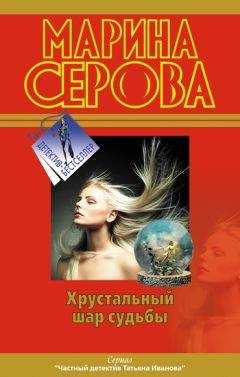Николай Иванов - Разговор с незнакомкой
Мое детство, как теперь принято говорить, было трудным. Потому что совпало с войной. Я хорошо помню себя пяти-, шести- и семилетним мальчишкой. Почти всегда голодным, частенько битым сверстниками. Меня, сына интеллигента, врача, не очень хотели принимать в свою компанию одногодки — сельская пацанва, сыновья пахарей и пастухов, кузнецов и плотников. Была и другая причина: уже в первый, во второй год войны большинство из них лишилось отцов. А мой был жив, воевал, и мать получала деньги по аттестату капитана-военврача. Но разве можно было судить их, босоногих, чумазых и оборванных мальчишек, если невдомек им было то, что на деньги те не прокормить было себя и детей. А чтобы как-то выкрутиться, чтобы жить, хоть впроголодь, но жить, надо иметь корову, в крайнем случае — козу, как в их семьях, и огород и запасать на зиму картошку, тыкву и свеклу. И разве можно их осуждать за то, что не могли они понять, каково моей матери, образованной и мудрой, знающей несколько языков и законы диалектики, но не успевшей приспособиться к деревенской жизни. Это уже потом, к концу войны, появилась у нас черная коза Ночка, и картошку мы научились выращивать с мамой и тыкву, а пока… Чего не могли понять мальчишки, понимали их матери-вдовы и несли, несли в наш дом, отрывая от себя, то банку молока, то хлеб, испеченный из ржаной муки вперемешку с отрубями. А мать подолгу плакала, не зная, как и чем отблагодарить их, и, стараясь укрыть от нас слезы, уже тогда пила пахучие капли. Но спасла нас мать, вытянула, распродав все, что имела — и одежду, и те немногие сокровища, что достались ей от ее матери и бабки с наказом беречь и передавать своим детям, и ценные картины, и библиотеку, единственное достояние отца и гордость.
А базары, толкучки военных лет! Разве забыть мне их. Так и стоит в глазах гигантский, многоликий, клокочущий человеческий муравейник. И худенькая, бледная мама, примостившаяся с края толпы с томиком прижизненного издания Пушкина и с ниткой жемчуга в руках. И смуглые упитанные люди, со снисходительной усмешкой принимающие из ее рук товар и с такой же усмешкой, чуть ли не брезгливо протягивающие ей взамен буханку хлеба или литровую банку с пшеном. И не забыть мне наш долгий обратный путь домой, сначала на трамвае до окраины города, а потом пять километров вдоль железнодорожной насыпи пешком. И те крохотные кусочки хлеба, что отламывала она мне в пути, а я сосал, как конфету, чтобы продлить удовольствие. И еще помню я, как делила она этот хлеб, как, стараясь экономить, резала его на тоненькие кусочки, а я, вылавливая из картофельного мутного бульона комочек разварившейся сладковатой картошки, намазывал его на свою дольку хлеба, точно масло, и долго любовался на него, не решаясь поднести ко рту.
Александр Дмитриевич достал сигарету, стал было разминать ее, перекатывая между пальцев, но, спохватившись, сунул в помятую полупустую пачку и тут же услышал шаги. Каблуки гулко простучали сначала по лестнице, по тому короткому маршу, что вел сюда, на чердачную площадку, затем уже мягче и медленнее по самой площадке и… замерли у двери. Сам не понимая почему, не отдавая себе отчета в том, что делает, он метнулся к двери, застыл у косяка. Он ждал, он знал, что дверь должна открыться свободно и мягко, без ключа, без шума, он только не знал, что делать, что предпринять, не знал выхода, хотя и стоял у двери, и не искал его, понимая, что поздно. Шли мучительные секунды, дверь не отворялась. Он услышал еле уловимый шорох за дверью, точнее, пожалуй, шелест какой-то, кто-то переступил с ноги на ногу, и высоко, над головой его под потолком резкой и хрипловатой трелью протрещал звонок. По-прежнему, точно в полусне, не понимая, что он делает, скорее автоматически, чем осознанно, он нажал ладонью на дверь, она подалась, распахнулась наполовину, и он увидел за порогом девушку в вязаном сером капоре, одной рукой в варежке она терла посиневший нос, а другой протягивала ему тетрадь в черной коленкоровой обложке.
— Пожалуйста, распишитесь за телеграмму…
Александр Дмитриевич принял у нее тетрадь, раскрыл, посредине был заложен огрызок карандаша и свернутый вчетверо бланк. Расписался. Девочка сунула тетрадь под мышку и потопала к лестнице. Александр Дмитриевич машинально развернул бланк и прочел:
«Дорогую Оксаночку поздравляем желаем здоровья долгих добрых лет…»
Свернув телеграмму, как была, он воткнул ее в щель между дверью и наличником и шагнул прочь.
Опомнился лишь возле вокзала, у входа в стеклянно-алюминиевый куб-кафе. Не раздумывая вошел, оставив швейцару пальто, пробрался в угол, подальше от оркестра, к небольшому заставленному посудой столу. Официантка, увидев его, издалека стала показывать жестами на центр зала, на чистые, незаселенные столы, но он покачал головой и опустился на край стула у стены.
Когда убрали со стола, он попросил бутылку красного вина. Официантка открыла бутылку, наполнила его фужер, поставила рядом вазу с конфетами. Вино он выпил залпом, закурил. И его вдруг охватил испуг, ужас, как в самом раннем детстве, когда он случайно оказывался в сумерках в большой темной комнате один и бежал, судорожно пробирался на ощупь к полоске света, падающей из-за неплотно притворенной двери. Он понимал, что испуг пришел задним числом, что все позади и сейчас, в эту минуту, уже ничего не может случиться, и что-то все-таки щемило душу, и он не мог унять беспокойства и все думал, думал, пытаясь представить, что было бы, войди в комнату хозяйка и застань его за столом или у порога. Постепенно испуг внутри него начал истаивать, отходить, видимо, подействовало вино. И он вдруг отчетливо вспомнил текст телеграммы. Оксана! Ведь он почти угадал когда-то ее имя. Ксения и… Оксана. И еще есть красивое русское имя Аксинья… И все-таки лучший вариант, наверное, Ксения. Что-то такое нежное, серебряно-голубое. И Оксана неплохо, но это уже что-то потверже, весомей, тоже довольно изящно, но чуть потяжелее, потускнее огранка.
От мыслей Александра Дмитриевича отвлек шум, шорох буквально где-то над его головой, рядом, громкий шепот, резко ударивший в уши. Он поднял глаза и увидел молодую пару — в затертом джинсовом костюме мужчину и женщину в черном муаровом платье с глубоким вырезом на груди. Не обращая ни малейшего внимания на него, они сели напротив, продолжая шепотом пикироваться.
— Замолчи! — Александр Дмитриевич услышал, как мужчина оборвал свою спутницу. — От твоих выражений даже негры краснеют!..
Машинально он посмотрел в глубь зала, по сторонам, но ни одного негра не заприметил, и ему вдруг стало очень весело, он жалел лишь, что не с кем разделить свое хорошее настроение — не с этими же, бесцеремонно вторгнувшимися в его мысли, без разрешения севшими пусть за казенный, но все-таки за его стол. Александр Дмитриевич подлил себе вина, как-то сразу же забыв о соседях, вернулся мысленно к Оксане.
«Значит, у тебя сегодня праздник. Какой? Рождение? Судя по пожеланиям — скорее всего. Прими и мои поздравления, безоблачных дней тебе, человек! — он отпил вина из бокала и придавил зубами твердый и хрупкий, слегка прогорклый грильяж. — Давай еще поговорим, а? Что-то я рассказывал о детстве…»
Запомнились мне отчего-то пленные немцы в конце войны. Они работали в совхозе, где мы жили, сооружали что-то там, возводили. Работали они и в пригороде, неподалеку от нас, строили жилые дома, восстанавливали пострадавшие от бомбежки заводы. Много тогда их было в нашей округе. Может быть, это как раз они попали в Сталинградский котел, до него ведь было от нас рукой подать — двести километров, может, чуть больше. Жалкая картина представала перед глазами, когда они шли на работу, шли неровным, рваным строем, гуськом, нахохлившиеся, с опущенными головами в глубоких, налезающих на уши грязно-зеленых пилотках.
А в кустах тальника в это время, затаившись с камнями, с самодельными деревянными ружьями, их поджидали деревенские мальчишки…
Но мальчишки есть мальчишки. Оборванные, босоногие и чернокожие от неистово палящего в наших краях солнца, с цыпками на ногах, полуголодные, они назавтра оттаивали душой, подкарауливали пленных снова по пути на работу и вставали поперек дороги с набитыми карманами и с оттянувшимися на груди и животе драными майками. И не камни были теперь у них за пазухой и в карманах, а недозрелые яблоки, морковь, брюква, печеная картошка. И начинался Великий Базар, вернее Обмен. Ребята выгружали припасы на траву, и пленные тут же выворачивали карманы. В руки ребят переходили портсигары, футляры от очков и расчесок, фотографии с изображением дородных белокурых фрау, упитанных ребятишек-ангелочков, снятых возле велосипедов и рождественских елок. Это были очень веселые и торжественные моменты перемирия. Выменянные сокровища они тащили домой, тешились вечер-другой, хвастаясь друг перед другом, и чаще всего несли немцам назад, за ненадобностью — и фотографии их домочадцев, и футляры от цейсовских очков. Себе же оставляли зверюшек, свистульки, кувыркающихся на нитке клоунов, искусно сделанных руками самих пленных. Что же касается меня, я не участвовал в сделках с пленными. Я подолгу наблюдал за ними, маскируясь в кустах, или долго рассматривал их, когда они встречались мне на пути, направляясь в сопровождении охранника на полевые работы.