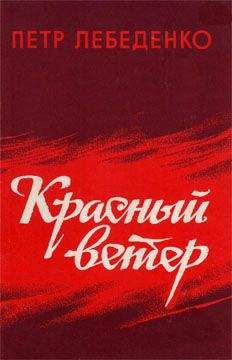Пётр Лебеденко - Льды уходят в океан
— Пойдем к тебе, — сказал Илья. — Три дня ведь не видались, неужто не соскучилась?
— Ко мне не пойдем. — Марина упрямо мотнула головой. — Если хочешь — погуляем у реки.
— Гулять при таком холодище? Ты не в духе, Машенька. Может, опять какую-нибудь золушку в беретике встретила?
Марина с минуту помолчала, потом тихо проговорила:
— Встретила, Илья. Только не золушку в берете…
— А кого же?
— Юность свою. — Она грустно улыбнулась. — И детство.
— Ну? Это здорово! И как она выглядит, твоя юность?
Марина в его голосе услыхала насмешку, хотела ответить резко и грубо, но удержалась. Сказала тусклым голосом:
— Это только мое, Илья. Не касайся его.
— А может, мне интересно… Может, юность твоя в штанах, а я ведь человек ревнивый.
Он пьяно хохотнул, обнял Марину за плечи, притянул к себе.
— Оставь, — попросила Марина.
Но Илья не слушал, не отпускал. И уже не смеялся. Ему вдруг показалось, что в нем проснулось какое-то новое чувство к Марине, которого он прежде не испытывал. Это не было обычным желанием обладать ею —: сейчас что-то совсем иное входило в него: негрубое, почти нежное. Он прижал голову Марины к своему плечу и стоял молча, удивленно прислушиваясь к самому себе. Даже закрыл глаза: так было легче — хоть на миг остаться с самим собой.
Потом тихонько потерся лбом о ее теплый висок, сперва об один, потом о другой. И проговорил чужим, приглушенным голосом:
— Мария…
— Отпусти меня, Илья, — снова попросила Марина.
Она тоже уловила что-то необычное, почувствовала в нем какую-то перемену, но не придала этому значения. Наверно, потому, что знала только одного Илью, знала таким, каким он был всегда. И ничего другого от него не ожидала.
Не отпуская ее, Илья спросил по-прежнему приглушенным голосом:
— Мария, скажи, я плохой? Скажи мне прямо, слышишь?
— Ты пьян, Илья, — улыбнулась Марина. — Трезвый ты никогда об этом не спрашиваешь.
— Я не пьян. Не пьян, слышишь? И ничего ты не понимаешь. И я ничего не понимаю… Ну, ладно. Ты не хочешь вести меня к себе? Не хочешь? И не надо. Не веди. Я сам отнесу тебя. Вот так… И не брыкайся.
ГЛАВА V
Марк понимал: к нему присматривается не только Беседин. За шутками, которыми перебрасывались с ним сварщики, за простым товарищеским вниманием («Может, тебе помочь?..», «Маска тебе впору?..», «Хочешь, я дам тебе электродик — высший класс!») он угадывал их настороженность. Они как бы прощупывали его: что это, мол, за птица прилетела в бригаду?..
Марк не смущался. Он не подстраивался, не лебезил, ни перед кем не кривил душой и сам потихоньку наблюдал за своими новыми друзьями.
Таких, как Харитон Езерский или Костя Байкин, узнать было нетрудно. Все у них наружу, никаких загадок. Первый — угодник, второй — немножко бунтарь.
Антиподы, они питали друг к другу острую неприязнь, но Харитон старался внешне ее не проявлять. Костя же так не умел. Это была прямая и открытая натура, за что одни любили его, другие терпеть не могли. Костя не обращал на это внимания. «Каждый должен оставаться самим собой! — говорил он. — Иначе мы будем не людьми, а харитонами».
Труднее всего Марк понимал Беседина. Илья никогда и ни перед кем до конца не раскрывался. В порыве откровенности он говорил Марку: «У меня, брат, сложная натура. Я и сам не всегда понимаю, кто я есть».
Беседин много читал. Каждый месяц его личная библиотека пополнялась не меньше чем десятком книг и журналов. По книгам, которые стояли у него на полках, о его вкусах сказать было нелегко. Ремарк, Стейнбек, Тендряков, Скотт, Эренбург, Паустовский, Джек Лондон… Илья знал биографии этих разных писателей и о каждом из них говорил:
— Здорово! Черт знает, как устроены у них мозги, у этих людей, схватить человека за душу — это ж уметь надо!
Но, пожалуй, больше всех Илья любил Джека Лондона. Полное собрание его сочинений он прочитал от корки до корки. Здесь Беседин чувствовал себя в своей стихии. Как-то Костя Байкин, тоже много читающий, сказал бригадиру:
— Знаешь, все-таки Джек Лондон маленько расист. Согласен?
— Ты что, обалдел? — Илья взглянул на Костю так, будто перед ним и вправду сидел сумасшедший. — Джек Лондон — расист! Ха! Да он с индейцами под одним одеялом спал. Сырую рыбу с ними жрал, с голоду с ними пух на Клондайке. Чокнулся ты, Байкин, тебе в психлечебницу сбегать бы, пока не поздно…
Костя не обиделся. Убежденно повторил:
— Да, маленько расист. Певец силы белого человека. Белый человек — бог! Всегда побеждает. И вообще сила, по Джеку Лондону, — все! Сила и деньги.
— Ах, вон ты о чем! — Беседин помолчал, сжал кулак и долго на него смотрел. — Сила и деньги, говоришь, все? По Лондону? А по-твоему? По-твоему, это что? Ничего?
— Почти ничего, — сказал Костя. — Видимость. Сила, конечно, большое дело, но она не в этом. — Он глазами указал на сжатый кулак Беседина. — Совсем не в этом. О деньгах и говорить не стоит.
Илья искренне рассмеялся:
— Знаешь, Байкин, почему ты так говоришь?
— Потому, что так думаю.
— А почему так думаешь, знаешь? Силы-то у тебя — пшик? — Он презрительным взглядом окинул маленького Костю, повторил: — Пшик! Я вот кулаком по столу грохну — ты со стула свалишься… А это обычное дело: слабый сильному всегда завидует: И пищит, как ты: сила — это ничто!
— Я, между прочим, тебе не завидую, — сказал Костя.
— Врешь, Байкин. Завидуешь. Мне нельзя не завидовать.
Теперь рассмеялся Костя:
— Ну и любишь ты себя, Илья! Тебе бы раджой быть… Наверняка приказ по своему княжеству издал бы: «Всем моим подданным ежедневно от четырнадцати до пятнадцати тридцати любоваться моей силой и красотой!» Издал бы такой приказ?
Беседин сказал:
— Нет. Я от четырнадцати до пятнадцати тридцати вызывал бы к себе Костю Байкина и вот этим кулаком… Всего по одному разу… И, конечно, уже через неделю Костя Байкин завопил бы: «Сила — это все!»
Костя без улыбки посмотрел на Беседина и проговорил:
— Да, хорошо, что ты не раджа… Было б дело…
Костя ушел, а Беседин, оставшись один, еще долго размышлял над этим разговором. «Щенок! — думал он о Байкине. — Сопливая философия: сила, мол, видимость… У самого душа чуть в теле держится, а тоже воображает».
Беседин не любил Байкина за его строптивость, но все же не питал к нему и особой неприязни, а часто даже покровительствовал ему, хвалил перед начальством. Харитон говорил:
— Напрасно вы, Илья Семеныч, не поставите этого типа на место. Выжить бы его из бригады, поспокойнее было бы. Вредный тип. Напакостит он вам когда-нибудь.
Илья отмахивался:
— Ума у тебя, Харитон, как у мышки. Таких, как Байкин, бояться нечего. Человек он совсем невидимый. Мимо таких пройдешь — и не заметишь, есть ли он вообще или нету. Присматриваться надо. Харитон, не к таким.
И думал в это время о Марке Талалине.
Минуло уже больше двух месяцев, как Марк пришел в бригаду. Вначале Беседин относился к нему так же, как ко всем сварщикам: снисходительно-начальственно. Пытался приблизить к себе. Марк не пошел на это. Не то чтобы чуждался бригадира — просто был с ним ровен, не хуже и не лучше, чем с другими. Беседин стал покрикивать, придираться, показывать власть. Марк спокойно выслушивал, делал то, что надо было делать, а на остальное не обращал внимания. Это выводило Беседина из себя.
И постепенно Илья проникся к Марку если и не чувством вражды, то по крайней мере чем-то близким к этому. Он не мог объяснить себе почему, но теперь ему часто казалось: Талалин — человек, который рано или поздно затмит его славу, вырвет из его рук. Он не замечал за Марком ничего такого, что могло бы подтвердить эту мысль, но и не мог избавиться от нее. «Интуиция, — говорил Илья самому себе. — Шестое чувство…» И на чем свет стоит клял Степу Ваненгу и Саню Кердыша, которые «подсунули» ему сварщика. А Харитону Езерскому, подбадривая себя, говорил:
— Беседина никто не свалит. Надо уметь работать, как Беседин. В чем рабочая слава?
Он подносил электрод к двум стальным листам, которые надо было сварить, зажигал дугу. Ровный, изящный, похожий на бархатную ленту шов ложился на сталь, и даже простым глазом можно было увидеть, что сварены листы навечно.
— Вот в чем! — Беседин снимал маску и смотрел на Езерского. — Ясно?
В середине января со Шпицбергена в порт пришла тревожная радиограмма. Осенью там случайно застрял советский угольщик. По теплому Норвежскому течению его отбуксировали в небольшую бухточку, поставили на зимовку. Неожиданно в бухточку рухнула глыба ледника, помяла подводную носовую часть корабля, один из отсеков дал течь.
Судно оказалось под угрозой гибели. Команда работала день и ночь, но своими силами моряки сделать ничего не могли.