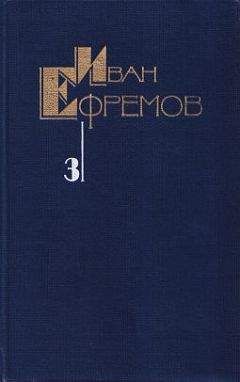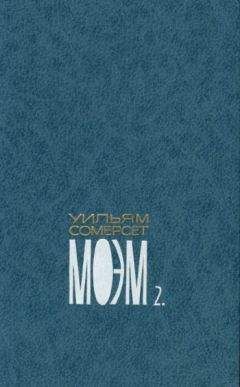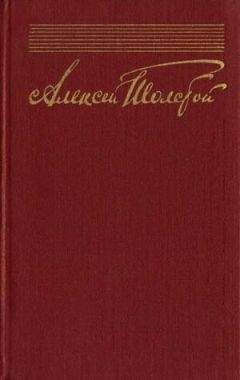Гавриил Троепольский - Собрание сочинений в трех томах. Том 2.
— Папашка… Умер…
Она бросила взгляд на лавку и метнулась к отцу… Когда она пришла в себя, ей рассказали все. Она молчала. Тихо плакала.
Федор, прижавшись щекой к груди отца, прошептал:
— Папашка… Папашка… Ведь я тебя любил.
Миша обнял брата. Зинаида, в бессилии прислонясь к стене, еле шевелила губами, запрокинув голову:
— Папашка… Как же так?
И вот Федор встал, выпрямился, погладил Мишу по голове и сказал надорванно и хрипло:
— Пойду расскажу Андрею Михалычу.
А к утру отец лежал уже на двух столах, приставленных рядом, вымытый, с расчесанной бородой, накрытый до рук белым. Все это сделали заботливые руки Матрены Сорокиной и соседок.
В ту ночь, перед тем как увидеть Ефима на лавке, Семену Сычеву не спалось. Метель выла. Изредка побрякивала вьюшка в трубе. Мысли были невеселыми.
— Спишь? — окликнул он жену.
— Где там спать! Ишь как бушует. Господи боже ты мой!.. А ты чего не спишь? Бывало, гром не будил, а теперь… беспокойный.
— Нету покою. Нету… Отчего бы это так? Как ты считаешь?
— Не управляешься — вот и покою потому нету… Летом нанимаешь, а зимой один.
— И то, пожалуй, правда: надо бы человечка нанять на круглый год. — Семен самодовольно добавил: — Батрачок, значит, требуется. Так, так. — А потом уже совсем мрачно: — Только не оттого беспокойство.
— А от чего же еще?
— Разве не слыхала, что на селе толкуют?
— Слыхала малость.
— Что? Рассказывай.
— Ну-ка да осерчаешь…
— Все равно говори.
— Будто Федька с Крючковым в избе-читальне при всем народе кричали: Сычев, дескать, кулаком становится, осаживать его надо. Андрей Михалыч, дескать, не видит.
— Вот оно что, Лукерья! Не дадут они мне ходу. Тогда эти самые кулаки не давали развороту — что ни затей, из рук вырвут, теперь эти… «читальщики». На дороге будут стоять. Не пускают.
Семен первый раз высказывал такие мысли жене. Да и некому больше сказать и нельзя: разбогател — стал одинок, перестал доверять людям. Люди для него стали другими. Постепенно всех их он разделил незаметно для себя на два лагеря: не мешающих жить и мешающих.
— Ты подумай, — продолжал он. — Им резону нету поддерживать богатство. Сами-то голыши: Федька — отчаюга, Крючков — бездомник. «Бедноту» читают и с глупа ума кричат без понятия. А не соображают того, что есть кулак. Кулак — это раньше был, другому богатеть мешал. А я никому не препятствую. Пожалуйста!.. Теперь, Лукерья, не кулаки мешают мужику — кулаков нету, а эти самые… партейные. Конечно, Андрюха Вихров, этот ничего. А Крючков вырастет — будет заворачивать. — Последние слова он произнес почти шепотом.
— А Федька?
— Федька — не знаю… И черт его принес сюда, лешего!
Семен долго молчал. «Вот тогда-то, в колодец-то, не надо бы было». Но жене об этом не сказал, а строго предупредил:
— Ты смотри, кому-нибудь не ляпни о нашем разговоре.
— Да что ты, Семен. Разве ж можно!
Но он не успокоился. В голову лезло: «Вот еще разболтает где-нибудь». Перестал и жене доверять.
Некоторое время он ворочался с боку на бок, потом надел шубу и вышел во двор, к лошадям.
Метель сразу залепила глаза снегом. Пучок соломы ударил в лицо. Семен отвернулся от ветра, подняв воротник, и решил: «Солому-то, наверное, у Земляковых сорвало с крыши. Хозяева! На крышу не разживутся». Зайдя в конюшню, он поправил корм в яслях, погладил ласково лошадь.
Вдруг он услышал в вое метели глухие удары о землю: ясно — кто-то вырубал яму. «Наверняка у Земляковых во дворе. Что-то тут не так», — решил он. В темноте прищурил глаза, наклонил ухо в сторону Земляковых, а через некоторое время убежденно сказал сам себе: «У них. Надо узнать». Он закрыл рот и нос рукавицей и пошел через улицу. Крадучись обошел двор Земляковых и остановился у полуразрушенного плетня, напряженно всматриваясь в отверстие.
Между двумя сарайчиками, под навесом, Федор вырубал топором и ломом яму в мерзлоте. Сычев так же осторожно отошел и вернулся в свою избу. Там он посидел на лавке, не раздеваясь. Снег обтаивал на одежде и шапке, и капли потекли по лицу. Но он этого не замечал. «Зачем ему яма в глухую полночь? Зачем?» Он не мог знать, что Федор в тот час откапывал винтовку.
Наконец любопытство взяло верх — он встал и тихо сказал:
— Пойду-ка узнаю доподлинно.
И вышел во двор.
С полчаса, а может быть, и больше он стоял, прислушиваясь, потом направился вновь ко двору Земляковых. Но только-только выйдя за ворота, услышал сквозь метель… выстрел. Звук был глухим — будто в хате. Сычев вздрогнул, и у него вырвалось:
— У них! Кроме негде. Ругаются все время… Уж не Ефима ли он, азиат?.. Пойду.
Теперь он почти бежал через улицу.
Стукнул в дверь… Тогда-то он и увидел уже мертвого Ефима, винтовку на полу и такого странного и страшного Федора.
Обратно он вошел в свою хату тихо, чтобы не разбудить Лукерью, и снова сел на лавку. Мысли точили: «Сперва, значит, яма… Зачем яма?.. Потом выстрел… И винтовка валяется… Ужли ж хотел закопать?! Свят, свят! Не может того быть… Человек же он, Федор-то. Не может быть… А вдруг?..»
Посидел еще, подумал, а затем решительно встал, разделся и твердо сказал:
— Та-ак. Теперь посмотрим, что будет дальше. В такие дела вмешиваться негоже: в чужую петлю не суй свою шею.
На следующий день приехали милиционер, врач, следователь. Допросили всех соседей и Земляковых. А после составления акта разрешили похоронить Ефима Андреевича Землякова.
Все доказательства подтвердили «факт неумышленного происшествия».
Из соседей на похоронах не было только Семена Сычева. Он и на следствии не давал никаких показаний: еще на рассвете уехал куда-то, чтобы не попасть в свидетели. Так никто, кроме Сычева, и не знал, что Федор ночью рубил землю во дворе. Он прибрал этот факт в памяти, как в свое время, после разгрома банды, утаил наган, засунув его под застреху на всякий случай. Может, еще пригодится.
Глава шестаяА зима вихрила и морозила. Иной раз метели по трое суток мутили белый свет. Тогда за кормом корове можно было идти в ригу только держась за веревку, привязанную к задним воротам. Иначе пропал: собьет, закрутит и заведет за ригу, а там — поле, степь, погибель. Так ведь и замерзли в Паховке в ту зиму два человека. А то морозы нажимали на землю так, что коровьи мерзляки подскакивали вверх, звучно, с выстрелом. В иной вечер такая тишина стоит на селе, что скрип чьих-нибудь валенок слышно за километр. Ну и морозы были в тот год! Бывало, в хате неожиданно так треснет бревно, что любая хозяйка вздрогнет, испугавшись, перекрестится и скажет:
— Свят, свят! В бревно нечистый залез.
— Зима снежная да холодная — десятина плодородная, — говорили старики.
А дед Матвей Сорокин говорил так:
— Что зима! Разве ж это зима! Вот в старину были зимы так зимы. Ворона на лету мерзла! Во! Летит, летит и — шлеп! — во двор. Подойдешь: готова! Замерзла начисто. Каюк вороне. Вот то — зима!
Сколько в этом правды, трудно сказать. Но дед Матвей так говорил. Он любил вспоминать, удивляя молодежь.
К избе-читальне и в ту зиму тропки вели со всех сторон паутинкой. Молодежи идти больше некуда — вот и протоптали. Кстати, кроме чтения там и пели, плясали, декламировали стихи. Заправлял этим делом Ванятка Крючков, секретарь РКСМ. Зимой, в пургу и морозы, в избе-читальне всегда горел огонек.
Неизгладимый в памяти милый огонек! Он и теперь, спустя много лет, все так же дорог каждому — и тому, кто взрослым приносил к нему букварь с первой строкой «Мы не рабы. Рабы не мы», и тому, кто учил других по этому букварю. Ой как много сделал этот огонек для целого поколения!
— Ну, Матвей Степаныч! — восклицал шестнадцатилетний Володька Красавица. — Я ж написал на доске «рабы», а ты читаешь «бары». Это ж «бы», а не «ры». Вот: видишь?
— А как же — вижу, — отвечал Матвей Степаныч Сорокин. — Вижу. А губы не дружны. — При этом он теребил большим пальцем губы. — Одна — на «ры», а другая — на «бы». Вот так, — и он показывал, как это все у него происходит. И вздыхал. А потом, вдруг просветлев, догадывался: — Дак у «ры» хвост вниз, а у «бы» — вверх, и серпочком. Чего ж ты мне не сказал, Володька, заранее?
— А я тебе учитель, что ль, какой? Я — шеф, и больше ничего. Обучу тебя — грамоту мне дадут, не обучу — срамота нам обоим. Ты уж учись, дед Матвей, пожалуйста.
— Ты мне скажи точно: газеты буду я тогда читать?
— Будешь, — уверенно отвечал Володя.
— Ох! Труда-то, труда сколько! — вздыхал снова Матвей Степаныч. — Ну, давай. Начали: «Мы-ы не… ба-а-ары-ы»… — потянул он.
— Да «не рабы»! — воскликнул Володя.
— Не буду так читать! — осердился совсем Матвей.
— Ну почему же?!
— А потому: лично я, Сорокин Матвей, никогда рабом не был. И об чем речь. Бар знавал, а рабом у них не был. В тряпках всю жизнь проходил, а — не был. Чего ты понимаешь, Володька, — чего читать, а чего не читать!