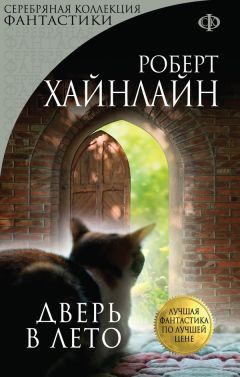Юрий Либединский - Зарево
Они троекратно поцеловались, стыдливо-церемонно — только так и можно было при людях — и тут его облапил тесть, старик Матвей Черкашинин, в зеленой черкеске с серебряными газырями, которую Филипп помнил столько же, сколько себя.
У Черкашинина сыновей не было, и Филиппа, да и всю булавинскую семью он любил больше, чем семью покойного удачливого брата, дослужившегося до есаульского чина и вырастившего четырех сыновей-офицеров, которые драли нос перед бедной родней.
Потом Филиппа обняла и поцеловала в лоб теща… Да, матери нет, с этим ничего не сделаешь.
Вина было много, мутненького и горьковатого чихиря со своих виноградников и своего изготовления. Как полагается у соседей-веселореченцев, была подана к столу также пахнущая хлебом буза. Стол заставили пирогами, рыбой, птицей и телятиной. Был и мед, темный, лесной, принесенный тестем, — тесть имел особенное чутье на лесных пчел. Никакой городской закуски не подавалось. В мирное бы время стояли непременно шпроты, сардины, икра.
Сахара тоже не было. И раньше чем сесть за стол, Филипп тихо поманил Стешу в тесную горницу с одним окном, что выходило в сад, — там они поселились после свадьбы. Из горницы Стеша вышла, неся голубенькую сахарницу, наполненную рублеными синеватыми кусками сахара, с четвертушку чаю с золотым изображением на бумажке, вся раскрасневшаяся, счастливая и гордая.
Тут подошли соседи, близкая родня — и началось пирование, со здравицами и шутками. Конечно, все шло бы веселее, если бы не война, тем более что невпопад речь вдруг зашла об убитых и слышны стали — совсем уж некстати за праздничным столом — женские всхлипы. Разошлись на зорьке. Отец уснул, женщины стали прибирать дом, а братья, чтобы не мешать уборке, вышли в сад на лавочку.
У подножия еще не проступивших из предрассветных сумерек гор в этот час обычно дул легкий ветер, даже в казачьих песнях он поминался: «ветерок-утренничек». Но сегодня было необычайно тихо, и четкие отпечатки копыт, крупных — коровьих, а также мелких и острых — козьих и бараньих, с вечера сохранялись в густом слое пыли, лежавшей на дороге.
Откуда-то доносилась колыбельная песенка. Наверно, ребенок не мог уснуть в домашней духоте и мать, а может быть, бабушка, вынесла его на утренний холодок.
Коваль, коваль, ковалечек,
Раздуй себе огонечек…
«Ага-а-а-нечек», — выговаривал женский голос.
Скуй Ванюше топорочек…
Братья переглянулись. Им эту песню пела мать… Филиппу вспомнилось, что последний раз, когда он был дома, мать, тогда уже больная, как-то чуждалась его. Или стеснялась? Или отвыкла? Все уходила за цветастую занавеску, где стояла стариковская кровать. А стоило войти в комнату Родиону, как мать, охая, появлялась и смеялась над шутками Родиона. Было это еще при усмирении веселореченцев. Родион тогда все время подтрунивал над братом, которому и самому не по душе было препятствовать передвижению по дорогам мирных горских арб и водить в Арабынь, в старую крепость, невооруженных, несопротивляющихся и ни в чем не повинных людей. А чего подтрунивать — попробовал бы сам.
В этот приезд сильнее, чем всегда, чувствовал Филипп, что судьба у них с Родионом разная, — у Родиона вольная, веселая, а у него, Филиппа, подневольная, страшная. Слушая песенки и побаски Родиона, он и сам смеялся, а когда Родион полушутливо обращался к нему с просьбой: «Рассказал бы ты, братка, за какие такие геройства огреб ты двух своих егориков», — Филипп морщился, махал рукой и задумывался. Геройства… И ему вспомнилось, как он на разведке огреб какого-то горячечного араба в белом, а потом оказалось, что араб этот — чумной, и целые сутки сидели они в карантине, ожидая чумы и мучительной смерти, а потом оказалось, что чума — не чума, и араб — не араб. Было во всем этом что-то такое и жуткое и смешное — костяной оскал скелета, вспоминать об этом не хочется.
* * *— Обижается наш старик-то. Примечаешь? — сказал Родион, озорно мигнув при этом одним и другим глазом на старика.
Филипп и сам заметил, что отец переменился. Уж не старческая ли у него глухота? Стоит старик посреди двора, и, пока не подойдешь и не тронешь за рукав, он ничего не слышит.
— Нет, это не глухота, старик над своей обидой думает, — снизив голос, сказал Родион.
— А какая у него обида? — спросил Филипп.
— Э-э-э, много всего набралось. А началось сдавна, еще когда последний раз выборщиков в Думу государственную представляли…
— Меня в ту пору здесь не было, — ответил Филипп.
— Вот потому ты и не знаешь ничего.
И Родион начал рассказывать усмешливо, бойко, с его способностью представить со смешной стороны самое серьезное дело…
— Мне еще Христя моя тогда с утра сказала, что в выборщики пойдет Епишка Мукосеев (семья Мукосеевых была самая богатая в станице, а Епифан Мукосеев приходился родным братом станичному атаману). Ты знаешь, тятенька редко когда серчает, а тут рявкнул: «Молчи, это дело не бабьего ума! Кто может знать, кого пошлем решать государственные дела». Я, конечно, тоже на нее цыкнул, не суйся, мол! Цыкнул, чтобы тятеньке угодить, а сам-то знаю, что про Христю мою недаром на станице говорят: «Надень на бабу вицмундир, будет баба командир», — и если она говорит, значит так оно и будет. Ну вот, собрались старики возле станичного правления, все в медалях, бороды уставили. Кто постарше — сидят на бревнах, и отец тоже среди них. А кто помоложе — стоячком, значит, с ноги на ногу переминаемся. Так, знаешь, как бывает, когда о главном деле не говорят? Дедука Дудаков завел о каких-то незапамятных походах, как он на турка ходил. То ли это было, то ли не было, ну, мы слушаем. А как атаман Мукосей выкатил бочку, повеселей стало. Старик Ковшов Степан — разум, я считаю, у него младенческий — встал и завел: «Молодцы атаманы…» — то и се и начал нахваливать Епишку Мукосеева, что он насквозь богом просвеченный. Но какое от него просвещение, когда даже из полиции выгнали за то, что взятки не по чину берет… А выходит, что, кроме него, послать выборщиком некого. Ну, тогда все стали кричать: «Любо! Любо!» А писарь уже умакнул перо в чернилы, голову набок, язык вывел наружу и хочет записывать. Глянул я на тятеньку, он на меня — и черт меня пощекотал: вспомнил я разговор с Христей и засмеялся… И тут наш старик — как варом его окатили, право! — вдруг встает с места и кричит атаману: «Погодите, Николай Григорьевич, хочу я, чтобы Епифан Григорьевич, если мы его посылаем в депутаты, нашему пречестному казаческому кругу поведал: ежели ты, скажем, изберешься в Думу, чего ты там хорошего станешь делать?» Епифан сначала глянул на нашего, может и хотелось послать его куда подальше, а потом все ж таки — обходительный человек, ведь если б не проворовался, и сейчас в писарях ходил бы — ответил, что я — де, Петр Сергеевич, в силу присяги буду стоять за крепость нашей державы… Да и понес всю ту словесность, которую я повторять тебе не буду, ибо каждый казачий сын долбит ее на войсковом сборе.
Старик наш ничего, послушал, а потом вдруг говорит: «Нет, Епифан, не будет от тебя толку в Думе. Все равно, что тебя послать, что того вон серого кобеля». Сразу все зашумели, закричали в голос… «Какого кобеля?» — спросил Епифан, а сам к отцу поближе… Я гляжу, что разговор-то ни из-за чего получается, потому что Епишку ведь только в выборщики намечают и никто его в депутаты в Думу не пошлет. Да и наш старик нашел место, где заедаться — на атаманском дворе, — такая глупость! Началось с серого кобеля, а пошло всерьез. Гляжу, чего доброго свалка начнется, а то и рубка. Я, значит, кинжал за рукоять держу да поближе к нашему старику толкаюсь. Вижу, и тестюшка твой, Черкашинин, к нашему поближе пробирается… Ну, а старик наш даже бровью не ведет, отворачивается от Епифана и говорит людям: «Нет моего согласия посылать выборщиком Епифана Мукосеева». Тогда вдруг сам атаман вскочил, весь трясется, глаза выпучил, тоже красный, слюной брызжет, за ворот себя держит. «А кого посылать, уж не тебя ли?» — кричит. «Вот угадал, — отвечает наш. — Меня и пошлите».
Ну, тут Черкашинин подает голос: «Правильно! Петра Булавина надо послать!» Ну, сразу же началось такое, что не разобрать, кто против орет, кто за нашего старика, кто смеется, а кто и не на шутку это дело ладит. А атаман-то аж клыки свои желтые оскалил. Тут еще Тимофей Суровцев — помнишь, может, три георгия он имеет за русско-японскую, — и тоже за отца. «Это, говорит, честный казак». Атаман даже завопил: «Это кто честный? Петька Булавин честный? А ссуду-то небось в кооперации зажилил?» — «Какую ссуду?» — спрашивает отец, и вижу у него на лбу жила, как вожжа, вздулась. Ну, думаю, ударил атаман нашего старика под самый вздох. Ты ведь знаешь, что никто, как именно наш Петр Сергеевич, эту самую «в единении сила», — Родион, насмешливо блеснув зубами, свел свою правую и левую руки в пожатии, — по станице собирал, и устав писал, и в войсковое управление ездил, ходатайствовал. А сколько он глотку рвал, сколько крови извел на эту евангельскую кооперативную жизнь! Получился же итог: не евангельская жизнь, а лавочка, и они же, Решетниковы, да Дунаевы, да Мукосеевы, его из правления кооперации фью — и высадили. И что они там себе в карман клали, об этом никто не знает и никто сказать не может. А что ссуда у нас была, так это действительно была. Да и как не быть? Ты — на действительной, я за Христиной хороводился на Кубани, один старик наш здесь расшибался за это самое кооперативное дело. Ну, хозяйство и пошатнулось. И ссуду дали нам законную, по всем протоколам проведена. Тут одни кричат «ссуда», и другие кричат «ссуда»! Кто попрекает, кто заступается. Тестюшка твой уже кинжал вытащил, братья его — за руки, а он так и рвется на атамана, уже загнал того на крыльцо, еле со двора его увели. Отец сам раньше ушел… Вот тут-то он и задурил. «Пусть, говорит, подавятся моей трудовой копейкой».