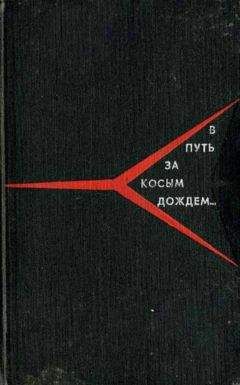Михаил Ребров - За опасной чертой
Динамик на стене не молчит. Он тоже трудяга. Из него непрерывно слышно на разные голоса:
— Я — пятнадцатый, задачу выполнил, разрешите посадку.
— Пятнадцатый, посадку разрешаю, — отвечает дежурный с КП.
— Я — сорок пятый, выполняю площадку. Высота — семнадцать тысяч.
— Сорок пятый, вас понял. Докладывайте результаты.
Кто-то передает данные о работе двигателей, кто-то запрашивает температуру на высотах, разрешение пробить облака…
Летная комната — это резиденция летчиков-испытателей. Здесь они работают, здесь и отдыхают. После полета они возвращаются сюда со шлемофоном и кислородной маской в одной руке и полетным листом в другой. Вешают шлемофон, звонят инженеру. Если повторный вылет в скором времени не намечен, снимают куртку, высотный компенсирующий костюм. Потом обсуждают полученные результаты, по телефону сверяют данные о температуре на высотах, составляют отчеты. Они трудятся!
О чем только не говорят в этой комнате! Ее стены слышали рассказы о счастливых полетах и вынужденных посадках; споры о достоинствах тормозного парашюта и недостатках в системе дожигания топлива; об аэродинамических коэффициентах и… о концерте Святослава Рихтера в Большом зале консерватории, — о картинах Айвазовского и удачах или неудачах любимой футбольной команды… Здесь велись разговоры о творчестве Шолохова и Хемингуэя, Ремарка и Симонова… Говорили о летчиках и самолетах других конструкторских бюро, о детях и школах, статьях, опубликованных в «Известиях», и чемпионах мира по хоккею. Здесь говорили все и обо всем и никогда равнодушно.
Интересный народ испытатели. Порой их трудно понять, где шутят, а где всерьез говорят. Как-то Георгия спросили:
— Вон видишь ту машину?
— Вижу. А что?
— Как зовут ее, знаешь?
— Ну, МиГ!
— Правильно, МиГ. А еще Люська она. Люська! Понял?
— Почему Люська?
— Вот чудак! Имя ей такое дали. На ней Костя Коккинаки летал. Любил он ее. Ох, как любил! И было за что. Она никогда не подводила. Слышал я, он на полном серьезе говорил одной машине, которая его чуть не стукнула: «С Люськи бы, дрянь такая, пример брала, у нее золотой характер»…
Георгий пожимал плечами. Константин Константинович Коккинаки всегда казался ему очень солидным человеком. Наверное, нет второго в мире летчика, который бы в таком возрасте испытывал реактивные истребители. А тут шуточки разные. Разыгрывают, наверное…
Собеседник не унимался.
— А вот этот МиГ-9 — старик, а выглядит, как молодой. Подгримировали. В кино снимался. «Актер»! А тот, в конце стоянки, — «профессор». На нем науку проверяют. Понял?
Георгий, бывало, наслушается за день такого, а дома, пытаясь восстановить услышанное, удивляется: «Как у них все весело получается? Откуда это у людей такой нелегкой профессии?»
Профессия испытателя, по существу, появилась вместе с самой авиацией. На заре ее развития каждый самолет был экспериментальным, а каждый пилот — летчиком-испытателем. По мере развития авиационной промышленности и повышения требований к крылатым машинам испытатели определились как самостоятельная профессия. Обособились, если так можно сказать.
Тогда, казалось бы, все было просто: пилот сам, в зависимости от своей квалификации, взглядов и даже… настроения, решал, как он должен испытывать самолет. В основу сегодняшних правил по оценке пригодности машины к полету легли специальная программа и нормативы, выработанные многолетним опытом испытаний. Сейчас многие важнейшие данные регистрируются в полете приборами-самописцами, снимаются на фотопленку, определяются с помощью наземных радиотехнических средств. Очень уж сложна авиационная техника сегодняшнего дня, летчику уже трудно управлять самолетом и одновременно отмечать во времени скорость и скороподъемность, число оборотов двигателя и его температуру, кратность перегрузки и многое другое.
И все-таки летчик остается летчиком. Есть еще много тончайших нюансов полета, которые может заметить, оценить, осмыслить только он. Кроме того, и сами приборы корректирует летчик.
Каким же он должен быть, этот всезнающий и, так сказать, все умеющий человек?
Вот это вопрос по существу. Работа испытателя требует обширных знаний. И даже не технических. Этого сегодня мало. Инженерных!
Часто, возвращаясь после очередного полета, Мосолов рассказывал конструкторам и инженерам о своих наблюдениях, пояснял, как вел себя самолет на тех или иных режимах, говорил о подмеченных особенностях. Все, казалось бы, шло нормально. Его понимали. Но на каком-то этапе обсуждение итогов полета продолжалось уже без него.
Георгий замечал это и не оставался равнодушным. Но что делать? В чем существо этих научных разговоров? Видимо, столбцы формул и замысловатые графики таят в себе нечто большее, чем его наблюдения, ощущения. Конечно, техника усложняется день ото дня. Тот же реактивный двигатель изменил не только скоростные и высотные характеристики самолета, но и его внешние формы. Самолет стал больше похож на оперенный снаряд, чем на ту классическую схему биплана или моноплана, к которой мы привыкли за долгий дореактивный период.
Реактивный двигатель принес в авиацию и огромные посадочные скорости. Раньше 300–500 километров в час считались весьма приличными для горизонтального полета. Сегодня даже транспортные самолеты эту скорость превзошли вдвое и втрое. А попробуйте приземлить самолет, если его посадочная скорость превышает 300 километров. Это не так просто. Маленькая ошибка в расчете, и посадочной полосы не хватит. Только надежные тормоза да тормозной парашют могут предотвратить аварию. И то не всегда.
Скорость звука на уровне моря составляет примерно 1200 километров в час. Казалось бы, газуй дальше — и обгонишь звук. Но это не так. Прежде чем достичь скорости звука, самолет должен преодолеть так называемую критическую скорость. Обычно она несколько меньше звуковой. А как поведет себя при этом самолет?
Когда были созданы достаточно мощные двигатели, удалось достичь на самолете скорости звука. И тут началось необычное: самолет неожиданно, без всяких видимых причин опускал нос, переходил в крутое пикирование и отказывался подчиняться летчику. Если все принятые меры не помогали, то скорость быстро превышала предельно допустимую и самолет начинал буквально разваливаться в воздухе, причем особенно быстро, если при этом возникала вибрация. Иногда летчику-испытателю приходилось покидать самолет, а если удавалось спасти машину, благополучно приземлиться, то конструкторы, инженеры, летчики с изумлением рассматривали следы жестоких разрушений на прочном металле обшивки, которую словно били кувалдами, рвали и скручивали гигантскими клещами.
Так возник термин «звуковой барьер». Георгий тоже испытывал такое. В одном из полетов самолет, разогнанный до критической скорости, внезапно, опустив нос, перешел в крутое пикирование и перестал слушаться рулей. В другой раз машина неожиданно резко упала на крыло, начала скользить. Ее лихорадочно трясло. С такими вещами не шутят. Малейшее промедление могло привести к полному разрушению самолета. Могло! Но этого не произошло. Ведь в кабине был человек, летчик-испытатель.
Иногда говорят: реакция пилота «быстра, как мысль». На первый взгляд это верно. Но только на первый взгляд. Реактивный самолет обогнал мысль. Импульсы нервных возбуждений движутся по нервам от сетчатки глаза к коре головного мозга со скоростью 70–80 метров в секунду. Самолет за это время пролетает сотни метров. Вот и судите о том, какой должна быть реакция летчика.
…Испытания в воздухе. Это не только полет на максимальную дальность или «по потолкам», проба управления по всевозможных ситуациях. Познавать «характер» самолета можно, например, при пуске ракет. Выключится ли двигатель в момент пуска на большой высоте или нет?
Георгию такая работенка выпала под самый Новый год, к тому же не на своем аэродроме, а за тысячи верст от него. Погода не жаловала. Ветер больно хлестал по лицу снежной крупой, коченели на морозе руки. Кое-кто чуть ли не всерьез стал поговаривать о переносе испытаний: «Шампанское пора закупать. Какие тут полеты!»
— Нельзя откладывать на год, — возражал Георгий. — Только сейчас. — Потом шутливо добавлял: — А бокал я возьму с собой, там и осушу за удачу и за Новый год.
О том полете он вспоминать не любит.
После пуска ракет двигатель все-таки остановился. Там, на большой высоте, в разреженной атмосфере турбине не хватило воздуха, она захлебнулась в дымной струе. Самолет резко просел. Тяга упала до нуля, и каждая секунда приближала машину к земле, каждая секунда могла стоить жизни. Неужели двигатель подведет?
Двигатель не запускался. И тогда начался поиск того единственного режима полета, на котором можно было бы совершить посадку. Первый сигнал, который приняла земля, не предвещал ничего хорошего.