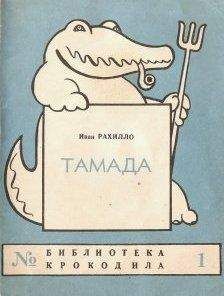Иван Рахилло - Мечтатели
Шестибратов отлично правит лошадьми: в сердце рождается знакомое чувство удали — это от ветра, от бешеного бега тонких, окованных железом колес тавричанки, от лёгкого нервного озноба перед неизвестностью. Но присутствие пулемета наполняет сердце уверенностью: кажется, что ты бессмертен.
— Мы о них думаем, — неожиданно оборачивается Любаша, — а их ещё и на свете нет…
— О ком это?
— Они ещё — воздух, трава, дождь…
— Не понимаю.
— Я думаю о будущих поколениях.
Откуда в этой белокурой головке берутся такие досужие мысли! Непонятный человек, эта Свечка.
Когда-нибудь я обязательно напишу: ночь, где-то вдали тревожные огни пожара, и по бескрайней степи летят, как птицы, комсомольские тачанки. На первой из них худенькая девушка, её бледное лицо, чуть озарённое далекими сполохами пламени, полно отваги. Картина будет называться: «По боевой тревоге».
— Я ведь тоже изучила пулемет, — кричит Любаша, отворачиваясь от ветра и поправляя на волосах алую косынку.
Если бы не широкая бурка Шестибратова, сидящего на облучке, нас совсем бы занесло пылью, поднимаемой летящей впереди тачанкой Жукевича.
Мы съезжаем куда-то вниз. Колёса со скрежетом врезаются в мелкую гальку и песок. Кони, похрапывая, осторожно входят в воду. Немолчный бег резвой реки на перекате слышен далеко окрест.
Передняя тачанка уже выбралась на взгорье и сразу исчезла за краем обрыва. Где-то вдалеке застрочил пулемет. Мы с Любашей зорко всматриваемся в темноту. Каждый куст на откосе кажется всадником.
Снова пулеметная очередь… Шестибратов останавливает лошадей, прислушивается. Ветер доносит справа, оттуда, где в темноте угадывается железнодорожный мост, неторопливый перестук колес осторожно идущего без огней поезда. Мне кажется, что гул моего сердца слышен даже Любаше — так напряжено внимание. Но это не гул сердца, и беспорядочный одинокий галоп коня по степной дороге, Шестибратов быстро разворачивает тачанку, и я хватаюсь за пулемет.
На откосе возникает расплывчатый силуэт всадника,
— Эгей, — кричит он, — товарищи, где вы?
Вслед за всадником из мрака вырывается тачанка, и мы слышим ликующий голос Кирилла Жукевича:
— Отбой! Банда отступила в сторону предгорных станиц.
Он сообщает об этом с таким победным, выражением, будто это он, Жукевич, отстоял поезд и заставил банду уйти в горы.
По молчанию, с каким Шестибратов разворачивает тачанку, я определяю, как неприятно ему хвастливое высокомерие Кирилла. Он пускает коней по дороге, но Жукевич, видимо, решил не уступать нам, в темноте слышен его гик и посвист.
Нет, брат, нас так просто не возьмешь! Шестибратов отпускает вожжи, и наша тачанка, будто приподнявшись на воздух, устремляется вперёд.
Мы с Любашей невольно втягиваемся в этот молчаливый поединок, от всей души желая первенства нашей тачанке. Шестибратов даже привстал, лихорадочно понукая распластавшихся в сумасшедшем беге коней. Слева в темноте уже виден поезд. Мы настигаем его, постепенно обходим и, не сбавляя скорости, врываемся в город.
Жукевич мчится следом, закиданный пылью из-под колес нашей тачанки.
В городе уже знают о прибытии поезда, к вокзалу направляется толпа с флагами и плакатами приветствовать делегатов Коминтерна. На вокзальной площади шумное многолюдье. Шестибратов останавливает взмыленных коней у пыльного палисадника.
Здание вокзала оцеплено железнодорожной милицией и нашими комсомольцами. На перрон пропускают только знаменосцев и представителей делегаций. Мне с тачанки видно, как из вагона кто-то выходит и что-то говорит прямо со ступенек. Его приветствуют криками «ура». К нам долетают лишь отдельные слова.
В это время с другого конца вагона на перрон спрыгивает высокий стройный человек в клетчатой рубашке. Он быстро пробирается сквозь толпу и с радостной улыбкой направляется прямо к нашей тачанке. У незнакомца открытый, высокий лоб и тёмные курчавые волосы. Нос по-мальчишески короток и задорен. Он с невыразимым упоением разглядывает Любашу, потом меня и Шестибратова.
— О, — восхищённо восклицает незнакомец, — милитер-кабриолет.
— Тачанка, — поправляет Любаша.
— Тачанка! Буденный! — Он трогает ладонью чёрную шерсть бурки. — Кавказ?
— Кавказская бурка, — по слогам объясняет Шестибратов.
— Бурка. Бурка. Тачанка…
Видно, что незнакомец старается запомнить неизвестные ему слова. Так мы разговариваем с ним, пока на перроне идёт митинг.
Незнакомец хотя и говорил с явным иностранным акцентом, но по-русски понимал многое. То и дело он улыбался, показывая удивительно белые, ровные зубы.
Он расспросил нас о городе, о том, как у нас происходила революция, как были разбиты белые. Его интересовало все — и музыкальные занятия Любаши, и мой красноармейский шлем с синей звездой, и почему наши кони в мыле, и профессия Шестибратова.
Шестибратов рассказал, что он художник, руководит студией Дворца искусств, работает над эскизом к большой картине, посвящённой октябрьским событиям в Питере, где Ленин выступал перед делегатами в Смольном. Он даже бегло набросал на бумажке композицию будущей картины с выступающим Лениным.
Но незнакомец резинкой стёр Ленину бородку и сообщил, что Ильич в Смольном выступал без усов и бороды. Эта подробность меня поразила, я никак не мог представить себе Ленина без бородки.
Митинг на станции заканчивался, музыканты исполняли «Интернационал», и наш новый знакомый от души пожимал нам руки.
На прощанье мы узнали, что он представляет в Коминтерне американских рабочих, по профессии журналист и зовут его Джон Рид.
МОСКВА
Мы с Любашей едем в Москву.
Я лежу на полке вагона, прикрытый шинелью. Дикий озноб тропической малярии сотрясает моё худое тело. Температура под сорок. Но я ни минуты не отрываюсь от окна — там чудо!
После тусклых, засыпанных серой пылью, вылинявших на солнце бесцветных заборов, грязных свалок и пустырей нашего городка передо мной редкостная по чистоте и прозрачности тонов картина золотой русской осени.
Тихая радость задумчивых лесов и ясная синева озёр, отражающих небо, рождали желание петь, писать красками, лететь, как птица, любить.
Нечто похожее переживал я в детстве, когда старый водовоз Осман на своей скрипучей арбе привозил к нам на двор воду с Кубани. Крутой бок пузатого бочонка, оплеснутый студеной водой, умыто сиял на солнце утренней свежестью, приводя меня в дрожь, в неизъяснимое восторженное состояние. Мне хотелось петь, плясать, бесконечно глядеть на эту влажную радость омытого дерева, и я пел и прыгал, приветствуя Османа. А он благосклонно сажал меня на дощатую перекладину впереди бочонка, и, хотя жёсткий лошадиный хвост, отбивая наседающих оводов, безжалостно, до полосатого румянца, хлестал меня по лицу, я терпел все муки, стыдливо скрывая от посторонних затаённую влюблённость в свежую чистоту цвета. И вот снова, но уже с более глубокой, завораживающей силой меня охватило это удивительное чувство.
Гляжу в окно и не нагляжусь!
Как неправдоподобно близок этот обведённый лиловой каймой горизонт! И непривычно долго пламенеет вздыбленный павлиний хвост заката.
На опушке одинокая лошадь с жеребёнком.
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…
Эти строки почти ощутимо передают то, что я вижу за окном. Они меня волнуют.
Любаша стоит, облокотившись о подоконник, она тоже любуется закатом.
Не оборачиваясь, она негромко и проникновенно читает:
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча бежит за мельницей ручей…
Это необъяснимо! Я читал стихи мысленно, а она продолжила их вслух. Какое удивительное совпадение!
— Это не совпадение, — отвечает на мой безмолвный вопрос Любаша, — я точно знала, о чём ты сейчас думал…
Глаза её сияют странным синим светом.
— В детстве я очень болела. Я пролежала в постели около двух лет. И я научилась угадывать и понимать мысли и желания всех окружающих. Я знала, о чём думают мама и отец, что хочет сказать мне сестра. Я понимала их без слов и почти всегда безошибочно…
— При коммунизме люди достигнут такой глубочайшей глубины общения и понимания друг друга, — говорит мечтательно Любаша, — что слова уже будут не нужны. Люди будут петь и всё понимать. И по чистоте тона будут определиться люди чистого сердца и совести. Им-то и будет предоставлено первое место в общественной и государственной деятельности. А хитрые, криводушные и бездарные будут сразу узнаваться по фальшивому тону. Их отстранят от главных дел и соответственно поставят на малозначительные работы. Наступит эра чистого коммунизма…
Раскрытые глаза Любаши устремлены на меня.