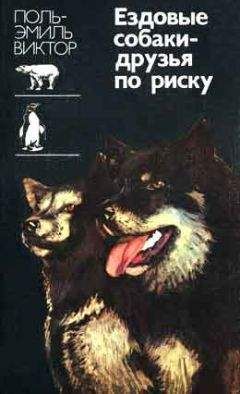Виктор Конецкий - Том 4. Начало конца комедии
Он прекрасно помнил весь этот вечер, но он совершенно не запомнил, как случилось все дальнейшее, а когда через месяц он узнал, что она беременна, то впал в ту панику, которая, говорят, охватила Пентагон, когда царская Болгария объявила войну Соединенным Штатам Америки. Ужасность пентагоновской паники заключалась в том, что ни один из американских генералов не знал, что такое Болгария, где она и что она вообще такое. И потому Пентагон, говорят, впал в совершенно отчаянную, безрассудную панику — он знать не знал, чем и откуда обороняться. В такую панику впал и мой герой, хотя лейтенантские звездочки горделиво засверкали на его плечах, а вместо хвостов-ленточек за спиной во лбу его угнездилась флотская капуста. На перроне возле «Полярной стрелы» он вверил золотоволосую подругу товарищу однокашнику — бывалый товарищ обещал провернуть аборт. И провернул. И через полгода женился на золотоволосой, и еще через год она родила ему сына — и все это с искреннего и счастливого благословения моего героя… А жизнь несла их в разные стороны — все дальше и дальше в разные стороны, и все они легко и даже весело забыли об истоках этой обыкновенной истории. И наш герой давно стал для золотоволосой подруги юности более чужим, нежели какой-нибудь шерп с Гималаев, а она стала ему такой чужой, как любая из дочерей Гогена на Таити. Но вот что интересно: знает об этой обыкновенной истории ее нынешний супруг — Юрий Иванович Ямкин? Мне кажется — нет. А иногда — да. Но какое все это имеет значение сегодня, когда она уже бабушка, а вокруг ночной океан, и темнота, и дальняя-дальняя дорога?
— Анекдот, анекдот вспомнила! — кричит Виктория и пальцами обеих рук пианирует по воздуху над столом так, чтобы все обратили внимание на легкость и изящество ее движений, ибо она пианирует «пальчиками»; она почитает свои накрашенные когти именно легкими, как сон, пальчиками.
Еще она любит касаться своей груди и поглаживать ее как бы случайно, инстинктивно, неосознанно оберегая нежность и ценность молочных желез от грубостей и пошлостей мира. Еще она любит прижимать обеими ручками волосы, чтобы смирить их невероятную легкость, их неудержимый эфирный полет. Еще она часто прикладывает пальчики к губам и щекам, чтобы целомудренно скрыть их роковую соблазнительность.
И вот она пианирует пальчиками над столом и: «Ха-ха-ха, у Бальзака спрашивают: „Вы все из головы пишете?“ А он, ха-ха-ха: „Да, из головы — я из ноги еще не могу!“ И еще, и еще, слушайте! Сидит этот Бальзак грустный такой, ха-ха-ха, у него спрашивают, а чего вы такой грустный, а он: „Потому, что умер отец Горио!..“ А вы мне больше не наливайте, мы с Мариночкой больше не хочим вина, оно уже кислое, его еще в Касабланке брали, мы шампанского хочим, да, Мариночка?..» — и все это девочкиным голоском, и каждый раз, когда она приподнимается с дивана, то опускаясь обратно, подкидывает сзади юбку, чтобы не мять, и садится на диван голыми трусами, а так как я сижу рядом, то она уж старается изо всех сил, чтобы я цвет ее трусов разглядел как следует. Она сегодня здесь королева бала, она самый близкий капитану человек, капитан взбалтывает шампанское в ее стакане проволочкой от пробки, потому что она не любит и не хочет «с газами» — от них сразу голова кружится, и капитан отодвигает от нее подальше тарелку с семгой, потому что Виктории не нравится запах рыбьего жира — Юра уже основательно изучил вкусы своей возлюбленной. И я — второй человек на судне — даю ей прикуривать «Уинстон» с легкой и шаловливой улыбкой — о, я давно научился лицедействовать в таких ситуациях, — ведь все это для благородных целей, ради мирного сосуществования, ради хорошего психологического климата в экипаже, это все кодекс морского поведения, который скрыт от глаз романтических психологов. Послушали бы они, как дублер капитана осуждает вместе с «девушками» отвратительные новшества, внедряемые на пассажирских лайнерах. Там запретили коридорным и другой обслуге брать чаевые у иностранных туристов…
Про повод вечеринки — внука моего давным-давно погибшего товарища и моей первой в жизни женщины — тут начисто забыли — так мне начинает казаться. Но я ошибаюсь. Когда дамы в очередной раз покидают бал, вдруг оказывается, что Юра трезв, как ЭВМ. (Я вообще ни разу не видел его тяжело хмельным ни на берегу, ни на судне. И он и стармех умеют пить, знают норму и не забывают закусывать.) Юра поднимает рюмку в трехминутной тишине и смотрит мне в глаза трезвым и спокойным взглядом: «Ну, за того и другого Степанов! Пускай новый будет счастливей нас!» Мы с механиком поднимаем рюмки, но немного теряемся. При тосте за погибших на флоте не чокаются. Тост объединяет и живых, и мертвых. Как быть с новорожденным Степкой? Юра оценивает обстановку и выходит из положения по стопам Колумбов и Соломонов: «Стало быть, споловиним, ребятки!»
Сперва мы выпиваем по глотку за погибшего деда, потом чокаемся и пьем за внука. И Юра берет гитару. Они с механиком поют на два голоса. Они поют хорошо, они прекрасно спелись, они близки друг другу без показухи, их связывает сто тысяч общих миль за кормой.
Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком…
После бала я лезу в ванну. В приятном состоянии невесомости качаюсь вместе с теплой водой, мочалкой и уткой-поплавком французского шампуня. Нет лучше игрушки для стареющего мужчины, нежели полупустой пузырек шампуня в ванной. Незаметный поворот обратно к детству. Когда вы топите шампунную уточку и потом с любопытством ждете ее стремительного и неуклонного всплытия из мутной воды, знайте, — это свисток с того света.
Я забавляюсь с уточкой и думаю о том, что, чем дольше человек работает на море, тем больше у него запас терпимости к соплавателям. И если говорить совсем честно, то я начинаю находить даже в Виктории некоторые смягчающие ее пошлость черточки. Она, например, совсем не жадная. А это редкая черта у современных моряков. И ее сетования на новую политику с чаевыми главным образом тем вызваны, что посудомойки и другая обслуга, которая раньше тоже получала долю от общих чаевых (хотя и не имела возможности входить в контакт с туристами), теперь осталась на бобах. Еще я вспоминаю, что однажды Виктория вдруг сказала с довольно натуральной грустью, что завидует мужчинам, так как они умеют дружить, а у женщин дружбы нет — одни подкусы при улыбочках. Действительно, Виктория с Мариной изображают подружек, но это не мешает Марине при случае намекнуть, что Виктория приворожила Юрия Ивановича, подмешав ему в пищу кое-каких снадобий, связанных с лунным месяцем и языческими культами предков.
«А может, действительно, приворожила?» — думаю я, забавляясь с уточкой. Чем еще можно все это объяснить?
12 ноября, Гамильтон — Бишоп-Рок, Северная АтлантикаРадиограмма: с приходом в родной порт инспекторский смотр московской комиссией. Начальство просит тщательно подготовиться. Пароходство существует всего второй год — министерство не спускает с нашего начальства глаз.
В шестнадцать тридцать сыграли «Человек за бортом», потом легли в дрейф и сыграли пробоину у четвертого номера, заводили пластырь.
Ветер четыре, волна три.
Насмешил боцман. Гри-Гри за жизнь завел миллион учебных пластырей. И вдруг забыл, с какой стороны брать на тали подкильные концы.
У матросов раздражение на тревогу, общая вялость, отсутствие какого бы то ни было желания к лихости, даже при «Человек за бортом!». Современному молодому человеку «неудобно» совершать торопливо-быстрые движения, например бежать к шлюпке под взглядами начальства: «Еще подумают, что я „специально“ стараюсь, а я плевать на всю эту игру хотел!»
Он может быть лихим и смелым, но это его смущает!.. Так мне кажется.
Комментарий боцмана: «Если так шевелиться будете — черви в задах заведутся!»
Слишком много бессмысленной ругани. Особенно при подъеме вельбота. Образчики: держи фалиня втугую, чулок мамин! Не давай раскачивать, в лоб тебе дышло! Выводи прямо под тали, чего шарики катаешь! Пускай волна пройдет на хрен! Совсем охренели: какая волна?
Как говорит Утесов: не знаю, какой одессит и откуда завез в Одессу эту одесскую музыку…
Вокруг был океан, впереди дальняя дорога. И позади дальняя дорога. Ребятам уже очень хочется домой. И о доме они думают. Думают о том, как начнет холодеть ночами, как в ватервейсах будет прихватывать ледком балтийскую водичку и как Гри-Гри добровольно выдаст им сапоги и ватники. Тоску и ностальгию можно припрятать по-разному — под внешней супербодростью, утрированной шутливостью, под фривольными шуточками, под бессмысленно грубой и грязной руганью. И, как ни странно, такая форма действует на содержание, как-то просветляет тоску длинной дороги, ослабляет яд психологической несовместимости, черт ее подери, через все триумфальные ворота с присвистом…
Обнаружил в судовой библиотеке пятый том Мериме и обалдел. Какой точный, обширный, тонкий, изящный ум! Какая статья о Пушкине! Ничего подобного у нерусских о нашей литературе не читал. Какая собранность, отчетливость мысли при полнокровном эстетическом восприятии.