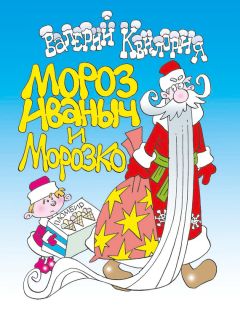Пантелеймон Романов - Сборник рассказов
— Ты не жил с ними, а рассуждаешь точно так же, как они.
— Одинаковое развитие… — сказал жених, пожав плечами.
— Боже мой, как бы я хотела помочь тебе. Нет, ты не знаешь, как я тебя люблю! Не знаешь! Иногда я лежу ночью, смотрю в темноту и думаю, чем бы я могла пожертвовать?.. А вчера даже увидела во сне, что принесла тебе деньги. Как раз двадцать червонцев.
— Лучше бы наяву, чем во сне. А то из–за этого идиотского клейма и твоей глупой морали я никогда ничего не дождусь.
Она несколько времени смотрела на него, потом вдруг, точно на что–то решившись и как бы просияв, сказала:
— Нет, милый, ты дождешься. Я верю, я уверена, что канделябры будут проданы.
V
На шестой день молодой человек пришел, молча бросил на диван канделябры и, отвернувшись к окну, ничего ей не сказал.
А она стояла, смотрела на него с лучистой радостью и с выражением какой–то победы и освобождения. Потом молча вынула двадцать червонцев и подала ему.
— Что это? Откуда?
— Я продала.
— Как? Кому?.. Значит, заветная мечта исполнилась? Двадцать?
— Даже с излишком исполнилась: ведь за одни канделябры двадцать, а у нас есть еще стаканы.
— Кто же купил?
— Тот самый господин, про которого я тебе говорила.
— Несмотря на клеймо?
— Несмотря на клеймо…
— Да ты у меня золото!..
Она покраснела и, опустив глаза, сказала:
— Я, милый, решила, что мой долг — помочь тебе.
VI
— Расскажи же, как это вышло так удачно? — спросил молодой человек, когда они, счастливые, сидели в вагоне, и она уже не запрещала ему потихоньку целовать себя.
— Ну… мы сидели и пили…
— Прогресс!
— Потом все лежали на ковре у камина.
— Уже?..
— Нет, это не сразу так вышло. Ты, пожалуйста, не подумай…
— Да уж представляю себе…
— Я сказала, что ни пить, ни лежать с ними на ковре не буду, если мне не найдут покупателя на канделябры. Я все время помнила о тебе и о деле.
— Ну, а все–таки потом, когда, стала пить, — оказалось не так страшно?
— Я думала только о том, что я делаю это для тебя. И чем было для меня это страшней и неприемлемей, тем большую любовь к тебе я чувствовала. Если бы это было для меня не страшно, а вполне обыкновенно, то в этом никакой жертвы не было бы. А я сказала себе, что для тебя я готова на всякую жертву. Но… правда, когда сама начинаешь делать то, что делают другие, то оказывается, все это менее страшно.
— Все страшно только в теории. Ну, а что ты чувствовала?
— Я все–таки была, милый, строга, очень строга…
— И всем портила настроение своей строгостью?
— А разве тебе было бы приятно, чтобы я была не строга? — спросила она.
— Конечно. Мне гораздо приятнее, когда ты вот такая, как сейчас.
Она испуганно отстранилась от него.
— Не надо так… ради бога. Мне кажется, я сейчас не должна быть близка к тебе…
— Почему?
— Я не знаю, как объяснить… Ну, постой, а что, если бы он… поцеловал меня!
— Что же такого, тебя от этого меньше не станет. Даже наоборот, больше.
— Как больше?
— Да так. Женщина, которая таким образом относится к этим вещам, имеет тот опыт и то содержание, которого не имеет такая, например, щепетильная девушка, как ты. Она, в сущности, бережёт физиологию в ущерб душевной сложности, которую она могла бы иметь от соприкосновения с мужчинами.
— Слава богу, слава богу, что ты так думаешь. Я нарочно сначала спросила тебя. Если бы ты ответил иначе, я бы ни за что не решилась рассказать тебе, что я перечувствовала. Боже, как все запутано и непонятно, — прибавила она, смущенно краснея и как бы не замечая руки жениха, которой тот обнимал ее за талию и тихонько прижимал к себе.
И так как, когда она говорила, то становилась доступнее, — как бы всецело поглощенная своей мыслью или новыми, неизвестными ей прежде ощущениями, — молодой человек сказал поспешно, очевидно, более занятый своей рукой, чем ее словами:
— Конечно, расскажи, мне очень интересно, что ты чувствовала.
— Совсем? Совсем? Все?
— Конечно, чего стесняться! Каждому человеку все свойственно чувствовать и ничего в этом позорного или неприличного нет. Факт. А факта не изменишь.
— Меня очень поразило то, что ты сказал: "Тебя от этого меньше не станет". И, конечно, теперь я вижу, что это так. Все это вздор в сравнении с настоящим чувством, какое у меня к тебе есть. Оно только увеличилось…
— И ты стала заметно добрее…
— Нет, милый, милый… не надо так… Я сейчас тебе расскажу.
VII
Она торопливо уселась поудобнее на лавке и, набрав дыхание, как перед чем–то решительным, сказала:
— Ну, вот… когда мы сидели на ковре, я пила и у меня кружилась голова, но очень приятно. Я никогда не испытывала такого ощущения. Все как–то кружится, плывет, и так все легко и просто кажется.
— Это тебе иллюстрация к твоим понятиям о какой–то душе: выпила, и все сразу стало просто — и мораль и все.
— Да… Ну, а потом мы… нет, мне стыдно ужасно!
— Глупости, глупости, — сказал молодой человек, и точно ее признания давали ему больше прав на нее, он все ближе и теснее прижимал ее к себе.
Они сидели на последней скамейке у стены, не видные для других пассажиров. И эта уединенность еще больше увеличивала между ними ту интимность, волнующую близость, какая возникала от этого непривычного для них разговора.
— Ну, хорошо, я все расскажу… Потом мы пошли с тем знакомым в другую комнату. Он стал целовать меня. Я помнила только о нашем деле. И говорила только о канделябрах, кажется. И о клейме. Он же все твердил, что клеймо для него неважно, что он выше предрассудков. А потом я не знаю… как это случилось.
Она вдруг почувствовала что его рука, обнимавшая, сразу перестала двигаться и остановилась. Потом он вскочил.
— То есть, ч_т_о случилось? — спросил он тоном, от которого у нее остановилось сердце и закололо в кончиках пальцев.
— Ч_т_о?.. Милый, не думай… Я помнила только о тебе и о нашем деле…
— Что он потом с тобой делал?!
И в его глазах, которые были видны в тусклом свете дрожащей вагонной свечи из фонаря, она уловила что–то жестокое, злое и чуждое
— Я не знаю, милый… я не поняла… Я все хотела его остановить, и никак не могла найти момента и боялась, что он откажется от канделябров. Я думала, что для тебя это почти все равно, а это даст нам наконец счастье. Сама же я готова была пожертвовать для тебя всем. Я так боролась с собой, так страдала, прежде чем убедить себя, что это предрассудок, что я д_о_л_ж_н_а побороть себя.
Молодой человек крикнул, побледнев:
— Да ты что, ошалела?!. Ты…
Он вдруг не договорил и пересел от нее далеко к окну.
VIII
Минут пять прошло в молчании. Она с тревогой и испугом смотрела на него, потом робко подошла к нему.
— Ну, милый, скажи хоть слово… Ну, что же ты?
Но тот, не отвечая, смотрел мимо ее умоляющих глаз в окно.
— Скажи же…
— Пойди к черту… Ты мне больше не нужна. Между нами все кончено.
Глаза девушки расширились от испуга и отчаяния. Она онемела.
— Милый, бог с тобой…
— Какой тут к черту бог! Оставь меня.
Он со злобой и омерзением сунул руку в карман и достал пачку червонцев.
— Вот твоя цена… ты понимаешь это? Гадость!.. Мне противно прикасаться к этой мерзости.
И он, взяв пачку денег обеими руками, сделал движение, как бы готовясь перервать пачку пополам и бросить под лавку. Но потом остановился, нервно постучал пачкой по щиколотке большого пальца и с еще большим омерзением сунул деньги обратно в карман.
Они долго молчали. Она — убитая, растоптанная, любящая, ждущая малейшего его жеста к ней; он — раздраженный, взбешенный, с гадливостью отстраняющийся от нее. От нее, к которой он всего пять минут назад так льнул.
Но, видимо, его тронул ее беспомощный, детский вид. И когда она робко, умоляюще, не сводя с него испуганных, молящих глаз, дотронулась до его рукава, он уже без злобы, а только с досадой и презрением оттолкнул ее руку.
В глазах ее блеснули слезы благодарности, и она, не решаясь касаться его открыто, села безмолвно и тихо около него, наслаждаясь теми моментами, когда его плечо от качки поезда прикасалось к ее плечу…
Когда поезд остановился, он, не оглядываясь, сказал:
— Бери свой чемодан.
И пошел вперед, совершенно не заботясь о ней, когда она, как покорная рабыня, несла за ним свой чемодан, не утирая катившихся по щекам крупных детских слез.
Идя к дому, они все время молчали в темноте. Он с поднятым воротником шагал впереди. Но видно было, что его мучил какой–то невыясненный вопрос. Наконец, он отвернул от лица воротник и, не взглянув на девушку, спросил с остывающим раздражением:
— А стаканы никому там не нужны?
Она торопливо утерла слезы и проговорила кротко:
— Стаканов я не предлагала.
ДРУЖНЫЙ НАРОД