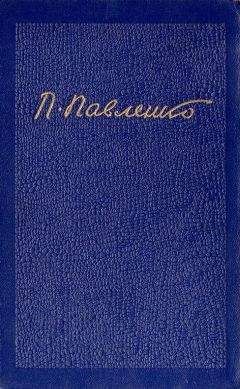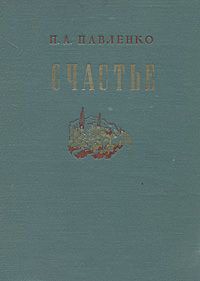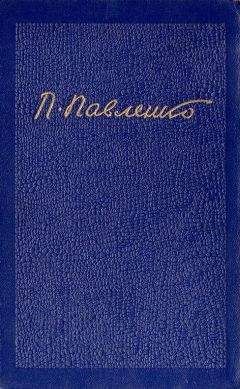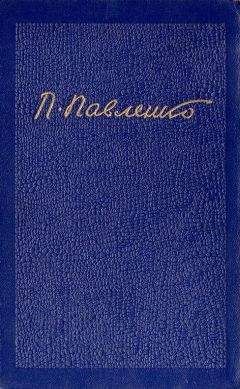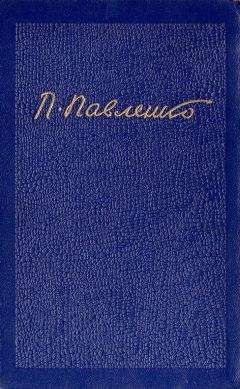Петр Павленко - Собрание сочинений. Том 2
Но на исходе второй недели, споткнувшись на крутом спуске с холма, Воропаев серьезно ушиб раненую ногу и грудь.
Кровь хлынула из горла, когда его подняли, и Варвара Огарнова немедленно повезла его в колхоз «Калинин», к тому самому врачу Комкову, которого Воропаев обругал на колхозном собрании.
Он лежал на двух матрацах, постланных на телеге, безучастно разглядывая дорогу. Огарнова не докучала ему разговорами. Ей было жаль Воропаева, и она боялась не на шутку расплакаться, если начнет разговаривать с ним. Он рисовался ее воображению отчаянным героем и человеком несчастным, да она к тому же еще и побаивалась его с той знаменательной ночи, когда этот одноногий перевернул всю их муторную жизнь.
Она ехала, думая о том, что все хорошие люди и недолговечны и несчастны, что, наверно, Воропаев скоро помрет от недосмотра, потому что, как говорит ее Виктор, «полковник с этой работой не устоит на ногах».
А Воропаев лежал, бесцельно глядя перед собою и стараясь ни о чем не думать. Ему было очень приятно, что его провожал весь колхоз (жаль только, что проводы несколько напоминали похороны), и он был по-настоящему доволен сделанным, зная, что здесь его долго не забудут.
Тут вспомнилось ему, — это было в самый разгар его «наступления» у первомайцев, — он шел однажды лесом и вдруг издали приметил: мальчик лет десяти, соорудив из досочек игрушечную трибуну и поставив на нее черепушку вместо стакана с водой, увлеченно произносил какую-то речь, изредка «прихлебывая» из черепка и потрясая кулаком, как это делал и сам Воропаев.
Неглубокий сосновый борок, вразвалку сбегавший с холма к дороге, насквозь просвечивался солнцем, и оттого каждое дерево стояло как бы в солнечной лунке.
А мальчик находился в тени и был отчетливо виден с дороги. Он играл один, далеко от жилья.
О чем он рассказывал, кого защищал или обвинял? Что делалось в этом маленьком сердце, когда его ручонка, постучав по трибуне, устремлялась вперед, как у бронзового Ленина?
Воропаев хотел было тогда подойти и расспросить мальчика, но воспоминание о собственном детстве, когда взрослые только портили игры, удержало его. Все же он несколько раз оглянулся. Этот мальчик-оратор был его духовным созданием. Он долго наблюдал за ним издали.
Солнечные лунки излились ручьями. Изгибаясь между деревьев, они бежали вниз, соединяясь на полянке у самой пороги в сплошное светло-золотистое озеро, но мальчика уже не было видно.
От мыслей об этом мальчике Воропаев перешел к мыслям о сыне. Стоит Сережка под какой-нибудь сосной в Серебряном Бору и так же вот, как этот казачонок, одиноко играет в оратора.
И как только он представил худенькую, тощую фигурку Сережки, его бледное, с крохотным носиком лицо, стеснительную улыбку и внимательный, чего-то ожидающий взгляд невеселых, но добрых глаз, стало ужасно грустно. Прижаться бы сейчас к вихрастой сережкиной голове и заснуть счастливым сном. Но как тут прижмешься, когда нет своего угла, своего места в жизни, когда он и сын разъединены — и, может быть, надолго — обстоятельствами, справиться с которыми пока он не в силах. Семья, где жил Сережка, была чудесная. Там его баловали, и это пугало Воропаева. Он ревновал сына к любви посторонних людей, к уюту, который создавался мальчику, к подаркам, книгам, не им преподнесенным, ко всему тому, что входило в сережкин мир помимо него.
Казалось, что сын отвыкает от него, и он пугался этого, как несчастья. С фронта он писал Сережке почти еженедельно, но из госпиталя стал писать реже, а в последнее время, замотавшись на различных комиссиях и обследованиях, и совсем отбился от переписки, изредка давая знать о себе только короткими телеграммами. Сережка же страстно мечтал о море, и отцовское невнимание или занятость, вероятно, огорчали его. В нем, маленьком мальчике, перенесшем эвакуацию, смерть матери, бомбежки, вечный страх за отца, возникала, как потребность в жирах и сахаре, всепоглощающая любовь к единственному, кто у него остался, — к отцу. Любовь мучительная, ревнивая, подозрительная, тяжелая для ребенка.
«Но что же делать, что делать?» — повторял Воропаев про себя, перебирая в памяти картины сережкиной жизни в Москве и сравнивая ее с той, которая смутно намечалась у него самого на берегу моря.
Семья! Ах, до чего же это важно в человеческой жизни!
«В Москве морозы, должно быть. Мерзнут еще, пожалуй».
Это только здесь, на юге, весна не уходила даже в декабре, а как бы все время врывалась в зиму и на день, на два даже упрямо задерживалась в ней, но немедленно была с шумом и грохотом, как скандалистка, изгоняема ветрами, чтобы спустя неделю прорваться снова, разбросать по южным склонам подснежники, образовать почки у кизила и вновь бежать в туманы, в дождь, в изморозь. Впрочем, здесь и дожди чаще всего были розовыми, морковными — от солнца, а тучи не надолго задерживались в небе. Их все время куда-то торопливо несло, будто они опаздывали, и ветер нервно подгонял их от зари до зари.
Цвет моря даже в часы дождя становился по-летнему синим. Кажется, опусти в воду руку по локоть — и посинеет рубаха. В иные дни до того припекало, что становилось трудно дышать.
Бронзово закурчавились, но, так и не сбросив листвы, позвякивали дубовые заросли, гудели темно-мохнатые кипарисы и разлапистые каштаны, а клены грустно и нежно желтели своими поредевшими, но все же не совсем еще лысыми кронами.
В Венгрии, вероятно, было примерно также. Впрочем, он никак не мог представить природы Венгрии, и ему стало жалко себя за то, что он рано вышел из строя, многого не увидев.
— Вы куда же меня, Варя, везете? — спросил он, приподнимаясь на локте.
Огарнова, ахнув, отшатнулась.
— Ох, господи!.. Я ж думала — вы спите. Куда везу? До доктора до нашего…
— Поворачивайте назад. Сейчас же поворачивай, я тебе говорю.
— А вы, слушайте, не дюже кричите. Я старше вас в данном случае и никуда не поверну.
— Да на кой чорт мне ваш доктор? Я ж его, помните, как проработал на собрании?
— Верно, верно, верно! — растерявшись, залопотала Огарнова. — Как же быть-то? Ну, хочешь, я вас свезу к одному старичку знакомому, замечательный лекарь!
— Вези к старичку, все равно мне в колхоз «Калинин» давно пора. А, между прочим, что за старичок такой?
— О-о, старик какой великолепный, — торжественно произнесла Огарнова. — Опанас Иванович Цимбал, с Кубани переселился. Он тут — вроде вас, до всего докатыкается. И пчела у него, и хата-лаборатория, и заметки в Москву пишет… Ходовой казак!
— Цимбал, Опанас Иванович? Не может быть! Маленький, как его черкесы называли: «середний такой», да? Бородка хвостиком?
— Ну да, ну да! — захохотала Огарнова. — Всех людей на свете вы знаете… Ну да, «середний такой»… Орденов — от плеча до плеча… Он, он! Так везти к нему?
— Вези, вези. Ты знаешь, Огарнова, ведь он мне как отец родной.
— Да что вы? Чего же вы ни разу к нему не съездили?
— Да я ведь понятия не имел, что он здесь, понятия не имел. Чем он тут занимается? И чего ради он сюда переселился? Ты знаешь, Огарнова, это же был знаменитый человек на Кубани.
— Воевали вы с ним или как?
— Пришлось, как же. Чудесный старик, большая, широкая душа… Вот не ждал не гадал! Я сейчас будто в отпуск домой еду — к этому Цимбалу… И ведь не многого лет и прожили вместе, а на всю жизнь, понимаешь, до самого гроба запомнили друг друга. Ты понимаешь, бывает так!
Она вздохнула, отвернувшись.
— Понимаешь да понимаешь. Отчего же не понимаю? Это только вам, мужчинам, можно, а нам, бабам, лучше и не запоминать, что было хорошего…
Она ничего не сказала определенно, но Воропаев ощутил: речь могла итти о нем самом.
— Вот так, иной час, вспомнишь кого, аж слеза прошибает, а чего, спроси, было у меня с тем человеком, — ничего не было, так, симпатия одна, мечта, — закончила Огарнова, попрежнему повернувшись к нему спиной, и хлестнула коня.
Подвода двинулась. Воропаева откинуло на спину. Он невольно обрадовался окончанию этого разговора. Душа его рвалась к Цимбалу, к тому, что было с ним пережито. И вся жизнь двух боевых лет на Кавказе, в лесах на реке Белой, и за Майкопом, и под Новороссийском, и на развалинах Тамани — все это сразу, одной картиной, встало в его памяти.
Это было весной 1942 года на Кубани.
Шла волна добровольчества, и Воропаев был послан на один из таких стихийных казачьих митингов, вовлекших в ряды армии тысячи патриотов и патриоток.
Стояли неслыханные, бедовые грязи. Упади в черноземную хлябь ребенок — не вытащишь. Пушки, боеприпасы, раненые неделями торчали на обезлюдевших шляхах.
На рассвете одного из таких проклятых неподвижных дней Воропаев верхом въезжал в станицу, где некий Опанас Иванович Цимбал, местный Мичурин, возглавил «движение дедов».
Станица, лежащая в пригоршне холмов, была еще в тени и как бы спала, но сами холмы вокруг нее уже смутно золотели от низких, почти горизонтальных лучей солнца, стелющихся пока еще только по земле и не поднимающихся до крыш.