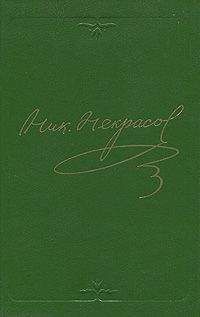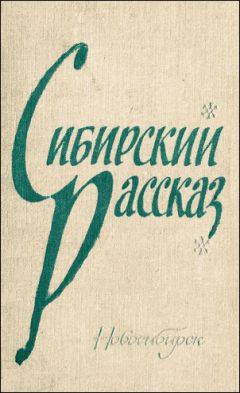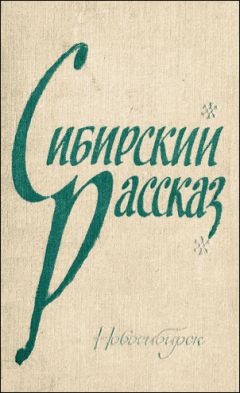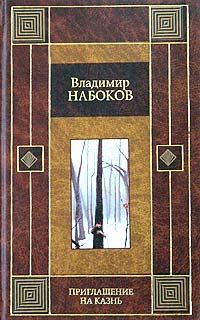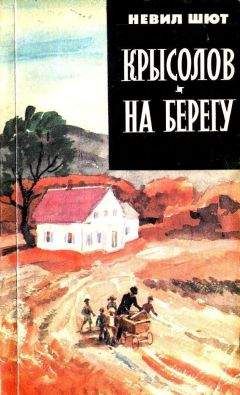Давид Константиновский - Яконур
Ученики. Школа.
Как сохранить Элэл? Что можно сделать для него?
Яков Фомич взял сигарету — за компанию.
Эти долгие утренние разговоры…
Пока не кончится пачка.
Яков Фомич затянулся неловко. Прокашлялся. Ткнул сигарету в пепельницу.
Я вижу его. Он толст, лыс, неряшлив. Бесформенность его — от мальчика некрепкого здоровья, который провел над книгами детство, юность, молодые и зрелые годы и стал обладателем всех возможных наград за успехи, ученых степеней и больного сердца. Лысина окружена пушком, незначительным, но всегда всклокоченным. Неряшливость производит впечатление нарочитой: рубашка, смотрите, перекручена, по обыкновению, на сторону, воротничок пиджака стоит торчком…
Манера говорить — вызывающая, даже с друзьями. Талант раздражать людей. Несносный нрав. Репутация мастера задеть, обидеть всякого собеседника, заставить кого угодно растеряться и покраснеть; человека заносчивого, разговаривающего резкими вопросами, несправедливыми обвинениями и абсурдными требованиями, постоянно всем что-то доказывающего; любителя сказать такое по поводу присутствующих или дорогих им людей, чего не может снести нормальный человек. И притом — неизменно добродушная улыбка. Словом, вполне понятно, почему одни любят его, а другие избегают (таких, разумеется, больше) и отчего Элэл было не просто пробить перевод Якова Фомича в свой институт.
Он и как специалист известность получил прежде всего в качестве хорошего критика: мог сразу оценить сильные и слабые стороны исследования. Славился человеком с наметанным глазом и был незаменим в трудных случаях, когда требовалось быстро найти импровизированное решение.
Родился он в деревне Деревеньки, Ручьевского района; отец не вернулся с войны, переехали в город, жили в Нахаловке. Рос тихим и нелюдимым; сидел дома, общался мало. Но под окном была у них скамейка; он слушал и запоминал — разговоры, песни, сердечные и похабные. Дома тоже все запомнилось. Отчима он не любил, отчим пил страшно; мать у него не было возможности полюбить, она всегда была занята. Он вышел из Нахаловки с твердым представлением о том, чего не должно быть; вынес из нее понятие о том, что в жизни так дальше быть не может и должно быть изменено. Взял со своей улицы и веру в необходимость этих перемен.
Он рано стал взрослым. Выбирал себе место в жизни сознательно, с пониманием, чего он хочет от будущей своей социальной позиции. Наука импонировала ему больше, чем что-либо. К своим способностям и школьным успехам он относился, разумеется, без всякого почтения. Но ученые были теми людьми, работа которых позволяла изменять многое в мире, он это видел, только дурак мог не видеть этого. Причислял он сюда, прежде других, — физиков, химиков, тех, кто занимается точными науками. В этом состояла их каждодневная работа. Тут была сфера деятельности реальной, такой, от которой можно ожидать чего-то. Выбор был сделан.
Ему не понадобилось потом много времени, чтобы понять, что желаемые изменения в технике происходят не так быстро, как ему казалось или хотелось, в условиях жизни — тоже далеко не сразу, а в людях — еще медленнее или, если это не точно, пусть будет — постепенно. Однако охлаждения не наступило. Пришла вторая любовь к профессии, пожалуй, еще более надежная. Пусть ожидания плодов переместились на будущее; появилось нечто чрезвычайно важное в настоящем, лично важное для Якова Фомича. Было это, конечно, рационально; и было, однако, любовью.
Работа предохраняла его от сверхчувствительного устройства, которым Яков Фомич был одарен от рождения… Приглушала его действие… Устройство это улавливало все признаки пустоты, жестокости, безутешности, низости, бесцельности, примитивности существования, все такие признаки, сколько их мыслимо было найти, сколько их можно было вообразить, и еще усиливало воспоминаниями детства. Формула «родимые пятна» Якова Фомича не устраивала. В грузном теле с больной сердечной мышцей очень туго были натянуты тонкие струны, которые защищала только работа да еще легкая походная броня бесцеремонности и злословия.
Яков Фомич уходил в работу от будничной жизни с теми многими ее составляющими, которые он не мог принять; он не в состоянии был смириться с ними, вынести, что они вообще есть, неважно, задевают они его самого или он стал теперь для них недосягаем; не мог постигнуть, каким образом они существуют, как продолжают сочетаться с другими составляющими жизни, теми, которые он принимал с удовлетворением.
От мира людей, в котором много оказалось для Якова Фомича неприемлемого, непонятного, эклектичного, он уходил в исследуемый им молекулярный мир. Этот мир был иным. Мало того, что он мог быть увиден, понят, объяснен, и делалось это строго объективно, и картина его была ясна, логична, имела полные, четко действующие модели. Добытое новое знание способно скорректировать что-то в моделях, но ничто никогда не в силах будет изменить главного, самого привлекательного в этом мире: все в нем можно принять безоговорочно, он полностью гармоничен, надежен, и в нем не возникает проблема справедливости.
Это занятие, этот мир требовали не только ума, но и страсти, душевных сил, и тут содержалось великое благо, потому что, следовательно, в этом мире можно было жить. Можно было жить работой. Отдаться ей совершенно. Это сравнимо только с любовью… Лена не могла дать ему этого, и отношение Якова Фомича к ней кончалось на доброте, снисходительности и привязанности, а работа — она была его первая любовь, которую он в зрелом возрасте увидел по-новому, понял, что значит она для него, и полюбил снова тем вторым чувством, какое приходит к настоящим, да еще везучим, мужчинам.
Люди, с которыми он стал работать, были еще одним миром, требовавшим исследования. Когда он начинал изучать их, ему было еще неясно, сделается ли он таким же, да и захочет ли; сначала он отделял работу этих людей от них самих. Формально тогда он уже принадлежал к их числу, передалось ему и что-то внешнее от них; однако, входя в новый для него мир, Яков Фомич жил пока в своем прошлом, в прежнем своем мире и смотрел на новых своих знакомых из окна дома, в котором провел детство. Ему понравились независимость их суждений, деятельная жизнь; да, они были те самые люди, о каких он думал. И он вступал в их общество без робости: знал, что сможет стать среди них равным и своим. Но еще не был уверен, что хочет этого.
Происходило привычное: коллеги сидели на лавочке перед домом в Нахаловке, а он выслушивал их из-за ситцевой занавески. Яков Фомич не спешил, выслушивал годами. Люди вокруг были всякие, были из таких же нахаловок, отовсюду, — но всех их уже успела объединить принадлежность к одному кругу. Многое оставалось чужим, какие-то суждения Яков Фомич не мог одобрить, чьи-то поступки истолковывал неверно. Слушал, взвешивал, спорил, соглашался или не соглашался; брал или не брал.
Хотя поначалу, некоторое время, он воспринимал коллег только как специалистов, — однако и этого было достаточно, чтобы интересоваться, как к нему относятся. Скоро он осознал, что давно борется за признание. Так Яков Фомич понял, что его решение состоялось, вхождение в этот новый мир свершилось; что он уже активно функционирует в нем.
Но все новое легло на то, с чем он вступал в жизнь, и Яков Фомич продолжал помещать людей и поступки на лавочку перед тем домом и мерить их по тому, что так дальше быть не может и должно быть изменено.
В верхнем слое много скопилось напластований, всяких — хороших, очень хороших (Элэл), дурных, причудливых. Биографию взрослого мужчины надо писать как историю государства, в ней окажутся периоды становления, объединения, расцвета, средневековых испытаний и срывов, раздробленности, упадка, возрождения, войн, прогресса видимого и духовного… Постепенно получился Яков Фомич, который сейчас гасит сигарету. Трезвый скептик, верящий только в анализ, в объективный, безжалостный анализ во всем; максималист, заинтересованный только в истине. Органически не способный к компромиссам. Резкий, зачастую до несправедливости. Получился Яков Фомич, знающий себе цену, понимающий меру своего таланта и неповторимости своей личности.
Он отдавал себе отчет в том, что за такую свою линию поведения, или нрав, или манеры — назовите как угодно — надо платить. Понимал, что человек, утверждающий свою автономность, всегда настаивающий на своем, к тому же подобным образом, должен быть готов встретить момент, когда придется по-настоящему, серьезно возразить, пойти на риск, пожертвовать чем-то, а возможно, и потерпеть поражение. Такова была цена, и Яков Фомич ее знал. Она устраивала Якова Фомича.
Все это было нелегкой ношей, но кому дано выбирать ее? Яков Фомич упрямо нес свою планету на своих слабых плечах, сердце его давало перебои, однако помощи бы он не принял, он хотел сам, один, лично держать и приводить в движение собственную планету, непохожую ни на какую другую.