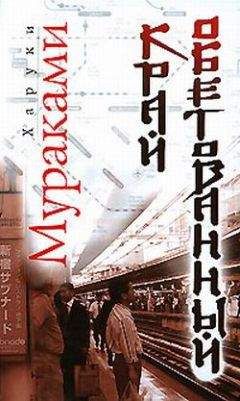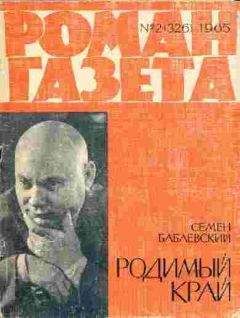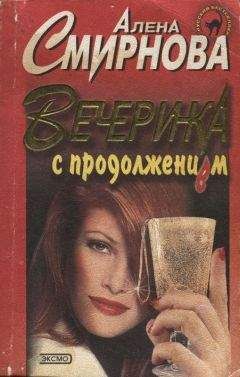Вера Солнцева - Заря над Уссури
В домике на Корфовской не спала мать Яницына. Не вздувала огня, сидела у окна и смотрела, как горел Хабаровск. Ждала. Сына. Вадимку. С первым же выстрелом он подался в штаб. Смотрела на калитку. Замерла старая мать: несмело открывалась калитка и шел кто-то неуверенно, будто чужой. Вадимка? Уж не ранен ли сын?. Бросилась к двери, сбросила крючок. Женщина!..
— Можно к вам, Марья Ивановна?..
Обняла ее мать. Узнала, заторопилась: прикрыла одеялом окно в кухне.
— Аленушка, вот радость-то!.. Изголодалась, под мостом-то сидючи? — подсмеивалась Марья Ивановна.
Она уже знала о похождениях Смирновой и потчевала всем, что было, желанную гостью. «Догадался очкастик Сережа, прислал ее ко мне. Сама-то бы посовестилась, наверно. Скромна, тиха партизаночка…»
На рассвете перебрались на ту сторону Амура.
— Выбрались! Молится кто-то за нас богу. В казарме думал — крышка нам! — воскликнул Лесников и из-под ладони всмотрелся в правый берег реки: там горел, продолжал сражаться с врагом Хабаровск.
— Кажется, выбрались! — ответил Лебедев и с благодарной нежностью подумал о Надежде Андреевне; вспомнил ее живое, выразительное лицо, гладко зачесанные вверх волосы над чистым, выпуклым лбом. «Из неминуемой беды вызволила, милая женщина…»
— Спасибо Надежде Андреевне! В форточку нас узрела. Спасла! Без нее заприметили бы нас японцы, на штыки подняли бы, — сказал Семен Бессмертный.
— А как же! — живо поддакнул ему Силантий. — Без нее была бы нам верная смертушка! — И продолжал смотреть на Хабаровск. — Горит! Горит! Во всех концах горит, родимый! Ну, раз живые мы — ихнего подлого вероломства по гроб жизни не простим, не забудем! Собирай, товарищ командир, народ. Начнем сначала!..
— Наше партизанское счастье — успели уйти по льду. Амур скоро тронется. Многие, видать, ушли: повсюду костры горят. Зябко! Погреемся и мы, посидим у огонька, — сказал Костин.
Набрали веток, старого плавника, — больше всех старался Лесников: тащил ворох за ворохом. Семен развел костер. Сидели у огня беглецы, думали.
«Аленушка скучает, ждет меня. Начала, кажись, приходить в себя дочка. Не плачет, не корит больше себя: мол, не уберегла. Командир с пистолей был и то опоздал, а что она поделала бы, безоружная? Вдова. Вдова. Легче бы ей, кабы дети: о них в заботу ушла бы…»
— Подвезло мне, — радовался Семен Костин, — Варвары с нами не было! Канители прибавилось бы…
— Куда ей теперь? — откликнулся Лесников. — Она около дочки, как квочка над цыпленком, трясется!..
Опять молчали. Грелись. Грустили. Думали о тяжелом дне, вероломстве врага. Сурово, без слез, по-мужски оплакивали павших товарищей. Лебедев ходил вперед-назад, вперед-назад. «И доверчивость, и легкомыслие, и переоценка сил, и неопытность командования…»
Они только что прошли через смерть, горе потерь, расставались с надеждой, что пришло время созидания. Они только что отступили перед врагом и оставили город. Нет большей горечи, нет большей мужской обиды, обиды солдата, как отступление перед врагом! Но жизнь есть жизнь, и она берет свое, и хитрит, и спасает от тяжких дум, восстанавливает утерянное в бою спокойствие. Так было с Семеном Бессмертным. Он вызвал воспоминания юности: вот здесь, на левом, топком берегу Амура, не раз бывал он с побратимом — нанайцем Навжикой, гнался с ним наперегонки в утлых оморочках по широким и узким протокам… Навжика…
Костин вернулся к действительности. Лебедев уже не ходил — как одержимый, метался по кругу.
«Ох, гневен, грозен командир!»
«Командующий революционными войсками Булгаков-Бельский, — подавленно думал Лебедев, — знал о подготовке японцев, предупреждался о надвигающихся тревожных событиях, о провокациях японцев во время парада. И все колебался! Не знал, на что решиться… Какое счастье, что мы с Иваном Дробовым не пошли на совещание командиров партизанских отрядов, — тогда бы никто из казармы не вышел живым! Додумался Булгаков-Бельский собирать командиров, когда стало очевидно — японцы готовятся выступать. В революционных войсках попадаются люди с бору да с сосенки — случайные, ненадежные. Обидно мало в отрядах большевиков, партийного влияния. А тут партизанская залихватская похвальба: „мы — сила!“ Храбрились, будто в лесу, — а тут нам противостояла регулярная, организованная дивизия под командованием старого зубра вояки генерала Ямада… А может, что и похуже было?..»
«Кажись, потишал? — поглядывал на командира Костин. — Уселся около костра. Мешает уголья…»
Полудремлет-полугрезит Бессмертный: уходит от тревог дня насущного…
Лесников, кряхтя, встал, поднял с земли винтовку.
— Ох и надоело винтовку держать, врага выглядывать! При Советах-то как в ход пошли топор, рубанок, пила-работница… Строить начинали. Строить… Хорошо, духовито пахнет свежее, распиленное на доски бревно! Кто бы знал да ведал, как я по сетям, неводу, перемету наскучился: заждалась меня рыбка… Ну, да что ж хныкать, размусоливать… Пойдемте, товарищи! В путь! Начнем все сначала!..
Уже светало.
— Постойте-ка, товарищи! Наши сюда переправляются. Подождем, — остановил партизан Лебедев.
Большая группа военных, рассыпавшись по льду, — японцы стреляли им вслед, — шла на левый берег Амура. Перешли… Смотрели на оставленный Хабаровск. От группы военных отделился человек.
— Сережа! Как удачно, дорогой… — Они расцеловались. Яницын пожал руки друзьям-партизанам. — Бессмертный! Здорово, Семен! Силантию Никодимовичу! Спасители мои дорогие! Давно ушли, други? А что поделаешь? И нам пришлось покинуть город. Держались-держались — невмоготу, и сюда маханули. Ка-акую промашку сделали: не следовало партизан вводить в город! Сколько лишних жертв! Двух недель не дали нам японцы: боялись, укрепимся — и ускорили выступление. Тетеря Булгаков-Бельский тянул резину — ни туда, ни сюда!.. Да сейчас не время и не место об этом говорить. Большие потери, Сережа? — спросил он, отводя друга в сторону. — Больно ты мрачен…
— Большие! — с болью вырвалось у Лебедева. — Сейчас трудно сказать, сколько полегло. Многих мы отпустили загодя. Но удалось ли им пробраться через город — неизвестно… Что это, Вадим? Измена? Предательство? Почему своевременно не вывели партизан? Доходили же сведения о подготовке!..
— Во-первых, коварство врага, — ответил Яницын, — во-вторых, дурацкая нерешительность Булгакова-Бельского. Мне думается, предательства не было. Беспечность. Неопытность. Ротозейство плюс партизанское ухарство: «Шапками закидаем!» А тут — Ямада! Прожженный военный лис…
— С кем это ты, Вадим? — спросил Лебедев.
— Степан Серышев, Флегонтов, — назвал Яницын имена гремевших по краю военачальников.
До слуха Яницына и Лебедева донеслись спокойные слова высокого, широкоплечего Серышева:
— Незамедлительно собирать и сплачивать рассыпавшиеся, разрозненные партизанские отряды. По подобию регулярной армии создавать боевые подразделения — роты, батальоны, полки…
— Да! Да! — поддакнул ему Флегонтов. — Следует установить связь с Амурским ревкомом — пусть займутся срочным формированием частей Красной Армии и направляют их сюда, на Восточный фронт…
Яницын кипел: ему надо было двигаться, приложить к делу силушку — он не любил ждать да выжидать!
— Слышал, Серега! Есть еще порох в пороховницах… — И повторил: — Порох, порох. Жаль, а придется расстаться с вами, товарищи-друзья: приказано ковать победу, копить армаду. С запада. Понятно?
— Уж чего понятнее, — ответил за всех Лесников. — А вот расставаться, товарищ комиссар, не хотелось бы… свыклись-сжились…
— Видите сами, — я уже лицо подчиненное… К маме не успел заскочить, не простился. Она уж, наверно, все глаза проглядела: не идет ли? жив ли? Опять одна…
— Не одна она, — ответил Лебедев, — я направил к ней Елену Дмитриевну Смирнову. Побоялся взять с нами: сами пробирались с превеликим риском…
— Она у мамы? — удивился Яницын. — А где же Василий Митрофанович?
— А разве ты ничего не знаешь? — вопросом на вопрос ответил Лебедев. — Василь Смирнов погиб незадолго до бегства Калмыкова…
— Как же так? Как же так? — потерянно повторил Вадим. — Я и не знал! Штаб меня поглотил целиком, оторвался от отряда… Как же это случилось?
Меня чуть-чуть не заколол штыком беляк, — ответил Лебедев, — а Вася его перехватил, и тот с размаху всадил в него штык. Спас меня, а сам сложил голову. В неоплатном долгу я перед Аленушкой…
— Я очень рад, что она будет в эти тяжелые дни с мамой. И мама не так будет тосковать обо мне, да и Елене Дмитриевне не так будет одиноко, — спокойно сказал Яницын, а тоска уже схватила его за горло, душила. «Как ей трудно, как мечется и горюет. Потеряла самого близкого человека. Бедная моя, бедная Аленушка… Мама, мама, помоги ей…»