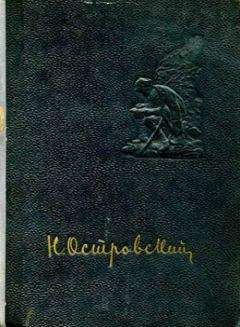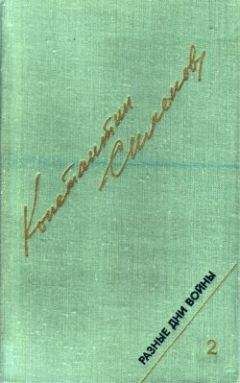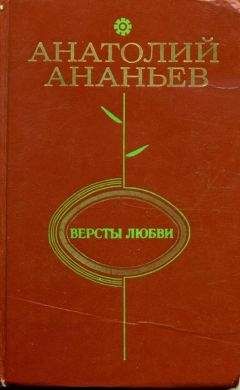Анатолий Ананьев - Годы без войны (Том 2)
— Но ее, по-моему, критиковали в печати, — возразил Борис.
— Э-э, что только и кого только мы не критикуем теперь, — с усмешкою ответил ему Белецкий, словно речь шла о шалости, которую нельзя принимать всерьез.
Полынеев, докуривавший сигарету на кухне, не слышал их разговора и не прислушивался к нему. Любивший весело, в компании, провести время, он вместе с тем считал себя человеком не разговоров, а дела. Но деятельность его заключалась не в том, что он сам делал что-то значительное; значительное создавалось там, в России, в общей массе, где словно бы само собой, как снежный ком, разрасталось могущество государства, и сознание причастности к этому кому, причастности к общим усилиям народа как раз и представлялось Полынееву тем его делом, которым он был удовлетворен. "Россия!:. Ты сначала лапти поноси", — мысленно бросил он теперь Белецкому, не видя его перед собой, но представляя наклоненным и расслабляющим шнурки на туфлях. Глотая дым и получая то мнимое, от воздействия табачного дыма, успокоение, какое необходимо было ему, чтобы вернуться в комнату, но возвращаясь пока лишь к тому настроению, с каким пришел в это утро к Борису, он вспомнил, что кроме biennale и заявления ва нем (о чем Польгаеев уже рассказал друзьям), он собирался еще рассказать о вояже главаря диссидентов в Канаду накануне упомянутого biennale и как главарь этот был освистан канадской общественностью. Подробности были настолько любопытны и так пе в пользу главенствующего диссидента, что Полынеев, мысленно перебрав их, смял сигарету и так же решительно, как только что выходил из комнаты, прошел обратно, весь сосредоточенный уже на этом.
VIII
Спустя четверть часа, когда и вторая новость, возбуждавшая воображение Полынеева, была рассказана им и, к огорчению, холодно встречена Белецким и Борисом и стало окончательно ясно, что третий, кого ожидали все, то есть сослуживец Бориса по посольству, не сможет прийти (по неожиданным домашним обстоятельствам, о которых он не стал сообщать по телефону), небольшая компания, собранная Борисом и не имевшая пока никаких как будто планов (кроме, разумеется, задумки организатора), вышла на улицу.
— Я знаю одно великолепное местечко, — начал было Борис, подкинув в ладони ключи от закрепленной за ним посольской машины и еще выразительнее (этими ключами) говоря всем, что он хотел предложить друзьям.
— Погоди, — остановил его Белецкий. — У меня есть другое предложение.
— Какое? — спросил Полынеев, невольно настораживаясь по не остывшей еще неприязни к нему.
Предлагаю посмотреть белых императорских лошадей. Около одиннадцати их выводят на манеж, и мы вполне успеваем. Зрелище удивительное, и, я думаю, с нашими мандатами пропустят на гостевые трибуны.
— Что касается меня, то я не охотник до подобных зрелищ, — возразил Полынеев, словно он испытывал физическую потребность противостоять Белецкому. — На лошадей достаточно предки мои насмотрелись и походили за ними, так что…
— Дело хозяйское, — прервал Белецкий, не дослушав его. — А вы, Борис? — сказал затем, обращаясь к Борису, как если бы не Борис, а он, Белецкий, руководил делом.
От него словно бы исходила власть, которой нельзя было не подчиниться, и как Борис ни противился этой власти, но когда надо было проявить решимость, терялся и не мог ничего сказать в свою защиту.
— Я? Я — как все, — краснея, оглядываясь на Полынеева и прося его этим своим взглядом уступить Белецкому и не расстраивать компании, проговорил он.
— А я пас, пас, да и дела у меня, — еще решительнее заявил Полынеев и, поклонившись, размашисто зашагал от них.
— Не жалейте, — сказал Белецкий (на недоуменный и растерянный вид Бориса). — Получите удовольствие, уверяю вас, и потом — это случай, так что идемте, идемте.
Борису ничего не оставалось как согласиться, и они пошли к центру Вены, ко дворцу Хофбург, при котором находились знаменитые бывшие императорские конюшни. Императоров давно не было, Австрия была республикой, управляемой президентом и премьер-министром, но императорские конюшни, то есть традиции или секрет, как было бы вернее, державшийся в строжайшей тайне бывшим императорским двором, — традиции продолжали соблюдаться с еще большей как будто строгостью, так что даже венцам лишь в редкие, специально отводившиеся на это дни удавалось полюбоваться на родовитых белых красавцев. Раньше на них разрешалось ездить только членам императорского семейства; теперь же этих белых красавцев продавали (за неимоверные, разумеется, деньги) миллионерам и миллиардерам в разные страны, что тоже держалось в тайне, и венцам, как и гостям Вены, наподобие Белецкого и Бориса, оставалось только предполагать, слушать и пересказывать всевозможные по этому поводу догадки и небылицы.
Одной из таких небылиц, особенно поразившей своей неправдоподобностью Бориса, не раз в детские годы гонявшего со сверстниками в ночное колхозных лошадей и полагавшего на этом основании, что он знает лошадей, была небылица о том, что будто бы рождались эти белые красавцы ярко-рыжего цвета, но что потом, с возрастом, шерсть их словно бы выцветала и приобретала тот снежной белизны оттенок, какого не удавалось добиться ни на каком другом конезаводе мира. "Чтобы рыжий жеребенок затем стал белой лошадью?! — усомнился тогда Борис. — Какая-то ерунда". Он слышал еще несколько столь же неправдоподобных, относительно этих красавцев, историй, на которые, занятый совсем иными целями и заботами, не обращал внимания. А когда увидел, как проводили бывших императорских лошадей под аркой дворца, через дорогу, из одного помещения в другое, — кроме того, что лошади белые, ничего выдающегося не заметил в них, несмотря на ликование толпы. Шагая сейчас рядом с Белецким и слушая его неправдоподобные рассказы о белых красавцах, Борис думал о деле. Его огорчало сразу несколько обстоятельств, в каких он оказался в это утро. Белецкий, в сущности, навязал ему свою волю и руководил им; из-за Белецкого же нехорошо получилось с Полынеевым, с которым Борису не с руки было ссориться; но главное, все продуманное с холостяцким обедом (в деревне, за городом) было теперь разрушено, и надо было искать что-то новое для осуществления своего замысла.
— Да вы сколько же в Вене, что ничего не знаете о знаменитых белых лошадях! — воскликнул наконец Белецкий, приостановившись и посмотрев на Бориса (не столько с недоверием как с удивлением). — Сколько же вы в Вене? — повторил он.
— Год.
— Э-э, непростительно, непростительно. Вам, молодому человеку. — Он посмотрел на черную рубашку и светлые вельветовые джинсы Бориса, сидевшие по-современному красиво на нем, на его прическу, говорившую о том, что он следит за модой и не лишен вкуса, на весь общий облик его, по которому в нем скорее можно было признать венца, чем советского гражданина (что, впрочем и располагало к нему Белецкого). — Вам рано еще зарываться в бумаги.
— Нет, я кое-что слышал, — вынужден был признаться Борис. — Но… вы так интересно рассказываете.
— Интерес не в том, как я рассказываю: сам материал интересен. С этими конюшнями, между прочим, если вы не знаете, — опять начал Белецкий, как будто ответ Бориса вполне удовлетворил его, — связана ошибка нашего гениального Толстого. Помните, в "Войне и мире" есть такая сцена, когда император Александр вместе с императором Францем подъезжают на Праценских высотах к Михаилу Илларионовичу Кутузову, и Александр спрашивает фельдмаршала: "Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович?.. Ведь мы не на Царицыном Лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки". Может быть, немного и не так, цитирую по памяти, — добавил он, извиняясь. — А Кутузов иронически:
"Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу". — И Белецкий, ссылаясь на австрийцев, которые-де обнаружили это, рассказал о том, как Толстой, любивший во всем следовать правде, неправильно будто бы изобразил императора Франца, посадив его на вороную лошадь, тогда как австрийские императоры, и это было их гордостью и престижем, ездили только на белых. — Не знал, видимо, — сказал он о Толстом. — А может, что-то хотел сказать свое этим, чего мы не можем уловить. Во всяком случае, любопытно, не правда ли?
— Как вы все помните? — удивился Борис.
— Ну, милый мой, — возразил Белецкий, переходя на «ты» с Борисом от той душевной расположенности, какую все более испытывал к нему. — Простительно не помнить Библии, но непростительно для русского человека не знать Толстого. Это величие и гордость наша, — чуть помолчав, добавил он.
Они прошли мимо монумента, воздвигнутого на одной из площадей Вены в честь советских воинов-освободителей. На гранитных плитах его были высечены наименования частей, бравших Вену, и Борис невольно, как он делал всегда, на минуту остановившись перед монументом, отыскал глазами и прочитал название части, которой в те годы командовал его тесть, молодой генерал: