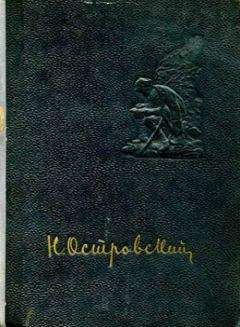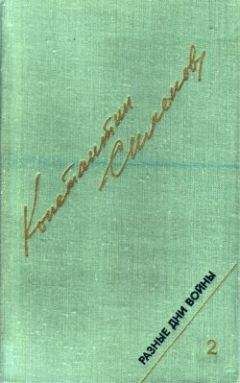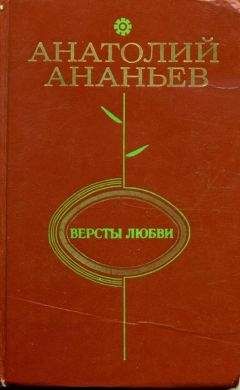Анатолий Ананьев - Годы без войны (Том 2)
Собиравшиеся у Лукьяновых (как и на других "посиделках") по различию взглядов разделялись на два противостоявших будто бы друг другу кружка, в центре одного из которых стоял Борис, в центре другого — худощавый и желчный на вид журналист-международник Николай Полынеев. По московским привязанностям Полынеев принадлежал к тому журналистскому кругу, который возглавляли братья Александр и Станислав Стоцветовы. Суть их взглядов, относившихся будто только к искусству (тех резких суждений, когда Александр в дело и не в дело выкрикивал: "Оставьте в покое народ, он вам не ширма, за которой можно прятать свои телеса!"), — суть эта под влиянием Станислава, втянувшегося в московскую жизнь и женившегося на Наташе, была заменена другой, столь же категоричной, но более в духе времени крайностью, когда к слову «народ» прибавлялось слово «русский» и все получало совсем иную окраску. Полынеев, усвоивший лишь это прибавление, которого многие годы как будто не хватало ему, и начавший соизмерять явления жизни только в согласии с этим прибавлением, — здесь, в Вене, считал себя представителем стоцветовского направления, то есть этой новой и невесть на кого работавшей теперь крайности, значение которой Борис не мог понять. Он не был согласен с Полынеевым, как Полынеев не был согласен с ним; и по этому-то их противостоянию как раз и делились все приходившие к Лукьяновым провести время.
Сверстники Бориса, то есть сослуживцы его по посольству, обычно бывали на его стороне и возражали Полынееву. Представители же агентств и журналисты поддерживали в большинстве своем Полынеева и называли себя (в противоположность лукьяновской стороне) то прогрессистами, когда им надо было доказать, что будто бы они ломали что-то рутинное, мешавшее общему движению, то консерваторами — в том значении этого слова, что будто бы возвращали к жизни важные, национальные, как добавлялось при этом, понятия, на которых, как на столпах, всегда стоял и будет стоять русский характер. Спорившие были одинаково русскими людьми и с одинаковой как будто заинтересованностью в конечной цели — в благе для отечества и народа; но пути движения к цели, видевшиеся им, не во всем совпадали, и в этом-то, в выяснении истины (середины, которая могла бы удовлетворить всех), и состоял интерес их затяжных, из вечера в вечер, и бесполезных споров.
В то время как мужская половина делилась на эти противоборствующие как будто стороны, что, однако, не мешало им с уважением относиться друг к другу, женская, находившаяся под влиянием Антонины, "нашей милой хозяйки", как неизменно называл ее Полынеев, считавший ее своей сторонницей, имела свой и не менее основательный предмет для разговора — это была неограниченная в венских универмагах возможность выбора красивых вещей и ограниченная (в средствах) возможность приобретать их, то есть тот стеснявший их недостаток в заграничной жизни, о котором (к недоумению и недовольству мужей) всегда было интересно говорить. Женщины либо уходили на кухню, либо собирались в спальне, где Антонина показывала купленные ею новые батники и джинсы. И в то время как на ней с ее узкими бедрами батники эти и джинсы выглядели прекрасно; в то время как этот стиль продуманной небрежности, какой усвоила она еще по Москве, придавал одежде ее какое-то будто очарование: полурасстегнутый и приподнятый со спины воротничок и наспех будто завернутые к локтям манжеты, — на подругах, стремившихся подражать ей (с их расплывшимися талиями), все выглядело так неженственно, грубо, что вряд ли можно было придумать что-либо еще, подобное этим lee, wrangler'aM, обтягивавшим их толстые бедра, что так бы уродовало их.
Пока женщины сидели в большой комнате рядом с мужьями, уродства их не были так заметны. Они в своих батниках и джинсах словно бы растворялись в общей атмосфере тех оживленных бесед, в которых внимание обычно бывает обращено на лица, на выражение глаз, а не на наряды. Но когда вся эта в джинсах и батниках женская компания после пересудов на кухне ли, в спальне ли вдруг всей толпой появлялась в комнате, то даже привыкшие ко всему журналисты невольно опускали головы. Женщины не замечали этого и держались так, как если бы оставались украшением и выражением достатка и положения своих обремененных делами и выяснением истин мужей.
VI
Одетый как будто по-домашнему просто — в черной рубашке с засученными по локоть рукавами и светлых, с фирменной нашивкой, вельветовых джинсах — Борис ожидал друзей. Комната была уже проветрена им, на журнальный столик поставлены розетки с орешками и фужеры, как делалось все при Антонине, и в холодильнике остывали с вечера положенные туда вино, соки и воды.
Несмотря на неприятный как будто (телефонный) разговор с Белецким, Борис был в хорошем расположении духа. Все у него пока складывалось так, как и задумывалось им, и он уже мысленно представлял себя с друзьями в окруженной полями и виноградниками деревне, куда собирался повезти их и где хозяин винного подвала и ресторана у дороги, в котором за сравнительно небольшую цену могут подать к вину жареного молочного поросенка, пообещал Борису обслужить его друзей по национальному старинному обычаю.
Первым пришел к Лукьянову Полынеев, тоже в эти дни живший холостяком, так как жена улаживала в Москве какой-то квартирный вопрос, потом явился Белецкий, с неохотой оторвавшийся от картотеки, и гости, разместившись (в ожидании третьего приглашенного Борисом) вокруг журнального столика и принявшись за орешки, сейчас же начали тот разминочный, как можно было бы сказать о нем, разговор, в котором как будто не затрагивалось главное, что происходило теперь в мире и занимало общественность, но что вместе с тем влияло или накладывало свой оттенок на общую жизнь. Таким побочным событием, интересовавшим Белецкого и Полынеева, было сборище диссидентов, проходившее в Венеции, biennale, как назвала его пресса. (Следует сказать, что явлению диссидентства на Западе в то время придавали значение силы, способной будто бы разрушить спокойствие в СССР, тогда как внутри страны оно не только не представляло какой-либо силы, но было столь незначительным, что если и занимало кого, то лишь тот круг столичной интеллигенции, для которой хороша бывает только та система, которая дает блага им, и неприемлема и нехороша всякая иная.) Biennale было, по существу, очередной (известного рода) затеей, рассчитанной на усиление антисоветских настроений на Западе. И хотя, как всякая подобного рода затея, она не имела даже третьестепенного значения в ряду других международных событий, вокруг нее шла кулуарная возня, которая искаженно докатывалась и до Вены.
Николай Полынеев, бывший осведомленнее других по части кулуарных подробностей: во-первых, потому, что был, как говорили о нем, старожилом Вены и имел среди австрийских журналистов друзей, которые питали его этими подробностями, и, вовторых, потому, что сам любил порыться в тех газетенках, во множестве выходящих на Западе, на которые обычно никто не обращает внимания, но в которых как раз и помещается та бульварная информация, над чем всегда можно поострословить. Полынеев накануне вечером встретился с одним из близких ему австрийских журналистов, только что вернувшихся из Венеции, и за кружкой пива разговорился с ним. Дружески настроенный австриец с озабоченностью, какую старательно сохранял на лице, рассказал о поразившем даже его сенсационном заявлении (о необходимости будто бы спасения русского народа, того самого народа, который сам только что спас Европу и не нуждался в покровительстве), которое сделано было одним из вожаков диссидентства, правда, пока еще неофициально как будто, на некоей "тайной вечере", устроенной в честь его единомышленников. Главное содержание этого заявления, которое затем будет подхвачено реакционной западной прессой, особенно радиостанциями «Свобода» и "Свободная Европа", заключалось в том (как пересказал его австрийский журналист, назвавший фамилию вожака диссидентов), чтобы русские люди собрались вместе в центре России и покаялись перед окраинами и что будто бы только тогда снизойдет на них благодать.
И обо всем этом, опять назвав фамилию вожака — человека, который за антиправительственную деятельность был выдворен из СССР, Полынеев пересказал теперь Белецкому и Борису и, отвалясь на спинку кресла и продолжая похрустывать орешками, которые с ловкостью закидывал в рот, наблюдал за впечатлением, какое произвело его сообщение. "Ну, что вы скажете? А ведь в этом есть что-то", — светилось в его хитровато-прищуренных, довольных глазах.
Для Белецкого и Бориса было очевидно, что подобное заявление вожака диссидентов не имело и не могло иметь никакого практического смысла. Но было так же очевидно, что нацеливалось оно на пробуждение тех националистических настроений, потенциально живущих в любом народе, с помощью которых собирались теперь нарушить единство СССР. Эту-то нацеленность, обращенную прежде всего на русский народ, сейчас же уловил Борис; и в то время как он, повернувшись, смотрел на Полынеева, в сознании его по непонятному ходу мыслей прежде несовместимые, жившие отдельно явления: это, о чем только что услышал, то есть разжигание националистических страстей, что могло вызвать только ненависть и вражду, и другое, которое проявлялось в Полынееве и служило будто бы иным, благородным целям, — явления эти вдруг предстали перед Борисом в каком-то одном ряду, соединенными и подкрепляющими друг друга. "Да нет, — в первую же минуту сказал он себе, — что за ерунда!" Но обычно спокойное, неподвижное лицо его вдруг напряженно вытянулось от той душевной работы, борьбы — поверить ли в открывшееся? — которая происходила в нем. Он невольно почувствовал, что всегда так торжественно подававшаяся деятельность Полынеева по возрождению будто бы у русских людей позабытой ими любви к слову «Россия» и ко всему русскому была той почвой, на которую диссидентствующие «патриоты» собирались теперь бросить свои семена. "Нет, — еще раз сказал себе Борис, хорошо знавший, что между теми, кто был на biennale в Венеции, и Полынеевым и людьми, стоявшими за ним, не могло быть никакой связи. — Но отчего же тогда эта кажущаяся близость? Что за надобность — готовить почву под чужие семена?" Ему как русскому человеку суета Полынеева по поднятию русского духа в русских людях всегда представлялась явлением странным. "Для чего надо искусственно поднимать то, — думал он, — что всегда было и есть в народе и что само собой, когда того требуют обстоятельства, как это случалось во времена народных бедствий, поднималось до таких высот, что преодолевало все беды?" Он выводил это из настроений отца, испытавшего этот подъем духа, и не на словах, не в заботах о том, что лучше — кирзовые сапоги или английские непромокаемые ботинки на шипах; все, что происходило с отцом в жизни, определялось только теми единственными потребностями, без которых деревенский человек не мыслит себе никакого дела. Ему не нужно было насильственно возбуждать этот дух в себе, который естественно и всегда жил в нем и жил в Борисе и руководил его поступками.