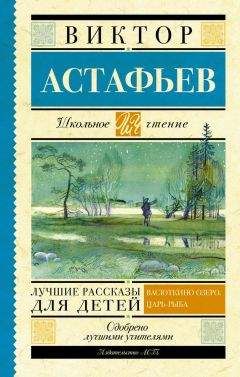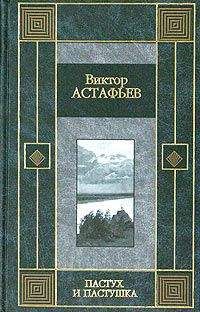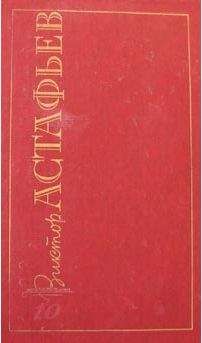Виктор Астафьев - Затеси
— Можно, я возьму с собой?
— Чего? — не понял директор.
Застеснялась женщина, выросшая в большой рабочей семье, где каждая крошка хлеба, всякий огородный плод, нитка, лоскуток были в большой цене, и молдавский помидор положила обратно на землю, «простите» сказала.
— Марья Семеновна! — опомнился наконец директор. — Завтра это помидорное поле, и это, и это, и перестойные, сахару не набравшие из-за дождей виноградники, и прочие овощи будут запаханы, так что берите помидоров сколько хотите и сколько сможете и кушайте на здоровье…
— К-как запахать? Почему? — начала заикаться гостья. — Такое добро, столько добра! Нам бы, на Урал бы… Деньги ведь живые.
Директор подтвердил: да, деньги, да, живые, попутно сообщил, как трудно из-за погодных условий велись посадка овощей и сев хлеба, как люди спасали урожай от засухи, потом от дождей и всяческого гада-вредителя, и вот… указано готовить землю под будущий невиданный урожай, потому как нынешний план уборки урожая уже перевыполнен, и боле убирать его некому, и горючего нет, и вообще планы там, в верхах, составили уж другие дряхлые правители, и потому планы тоже другие, да все в пользу государства и народа, все рассчитано на рекордные достижения.
— И так из года в год, — горько вздохнул директор, — меняются партийные вожди в Москве, в Молдавии, но не меняется их отношение к сельскому хозяйству. Ныне разбой здесь творит товарищ Бодюл. Бо-оольшой политик и герой…
Бодюл, секретарь ЦК, по-ранешнему — царь, мудрый вождь. Он долго здорово правил на бессарабской земле, разоряя ее, губя беспощадно во имя коммунизма и неслыханной дружбы народов.
И бездельников плодил, как тля или древесная гусеница, выделяя вонючий помет. Бездельники обожали своего партийного царя, тянулись к нему со всех сторон, в первых рядах краснорожие высокопоставленные отставники, хорошо отточенным нюхом чующие и падаль, и сладкий корм.
Однажды на празднике Победы битый молью, обделенный умом, но хитрый и коварный разоритель Молдовы провозгласил здравицу покойному Сталину, и патриотическая, хорошо кормленная масса устроила получасовую овацию — вот сколь упрямой доблести и преданности своему времени, своим вождям скопилось в груди большевистских молодцов.
Ныне вон высокие чины из генштаба дежурство негласное у Мавзолея устроили, чтобы ночной порой, не дай Бог, рукосуи вражеские не умыкнули оттудова обожествленного вождя народов, из которых он, человеконенавистник, сильнее всех ненавидел народ русский — оттого, видать, что не умел выговаривать слово русский.
В парке города Кишинева, заставленном гипсовыми и бронзовыми безглазыми бюстами кремлевских любимых вождей, был взращен венец садоводческого искусства — красные яблоки заставили так расти на ветках, что, алой вязью сплетаясь, молдавские подневольные яблоки образовывали пламенные слова: «Слава КПСС». И еще что-то в этом духе.
Хитрый мастеровитый садовник, мечтающий за этот трюк получить Звезду Героя иль повышенную пенсию, держался гоголем, как величайший творец природы и всех искусств.
Партийные шестерки, его и его творение представляющие, били чечетки вокруг тех идейных растений, выкрикивали чего-то высокохвалебное товарищу Бодюлу и его покровителю Брежневу.
Тогда же один из представителей нашей делегации, демонстрировавшей пламенную дружбу народов, покойный Михаил Дудин, назвал это восторженным идиотизмом.
Но какой с него спрос, с поэта, рожденного в Пошехонье, вечного юмориста и остряка. Неразумное дитя пошехонских крестьян, моральный урод героического времени! Хотя и воевал он под Ленинградом на гибельном пятачке, удерживаемом мотопехотой чуть ли не год, и так там истощал, что до конца дней своих тела нажить не мог. Однако ж это не значит, что можно глумиться над этакими чудесами подвижников пламенного патриотизма…
Отставникам-то краснорожим, густо заселившим Крым, юг Украины, Молдавию и другие солнечно-виноградные места, тут нравилось все — от яблонь, так идейно растущих, до вождя Бодюла, сгубившего во имя этих пламенных идей, показухи, своей партийной карьеры родную республику. Это они, отставники да недобитые комприживалы, визжат сейчас на чужбине от утеснений русскоязычного населения, боясь за свою шкуру, но больше за нахапанное добро, неохота им покидать сытые, солнечные палестины.
А вот остальным русскоязычным бояться нечего — бери шинель, иди домой, хотя бы в Сибирь. Яблоки и виноград здесь не растут, да еще этаким вот идейно направленным манером, но полоса земли для жительства, кусок хлеба и толика тепла в еще пока живом русском сердце всегда для них найдутся.
Жизнь по-новому
Десять часов отсидки в Красноярске. Пять часов в Карачи. Опоздали в Потайю, что в Таиланде находится, аж на четырнадцать часов. Все лучшие номера заняты-розданы, нам с внучкой достался номер с видом на крышу кухни, над которой день и ночь работают мощнейшие вентиляторы. В номере чад и дым и все время что-то ноет, дверь плохо отворяется новомодным ключом. Вспоминаю, как в домах творчества, где бывали с женою раза три-четыре, нам всегда доставались худшие комнаты, и непременно напротив сортира, — вот обхохочется жена моя, узнав про это совпадение.
Но Богу Богово, а мужику завсегда мужиково.
Думал, после «ударного» рейса отосплюсь. Нет, и день, и другой общий дискомфорт, как говорит знакомая врачиха. Главное, чувствую я себя чужаком в этой стороне, в Сиамском заливе. Одежда к телу липнет, дышится будто мыльной пеной, народ вокруг чужой оттого, что богатый и здоровый. Зато внучке радостно и вольно, манатки разбросала, шляется где-то, подруг кучу завела, мороженое трескает без нормы. Бабушки нет, чтобы стювать, говоря по-уральски, этот неудержимый двигатель. Я быстро изнемог; говорю ей, указывая на бардак:
— Ох и попадется же тебе растрепа мужичонка и будет обосран в коморе с ног до головы или лупить тебя будет день и ночь!
— Нетушки! — как всегда, убежденно выпалила она. — Я сама его отлуплю!
Я притащился к заливу.
— Плыви! — говорю внучке.
— Куда?
— А куда хочешь и сколь хочешь.
Проперла она, что акула, до предохранительных буев и обратно.
— Все, — говорю, — не утонешь.
И прекратил всякие попытки руководить человеком, не по силам это мне.
У меня одна радость — чтение, вольное, не по обязанности. Взахлеб читаю, подпрыгивая от восторга, книгу Якова Харона, присланную Алешей Симоновым, — «Злые баллады Гийома», невероятная, чудесная выдумка: скитания двух заключенных на сибирской земле.
В гостинице «Амбассадор», где мы с внучкой в декабре зимогорили, нет ни радио, ни градусника; кроме торговых точек с едой, выпивкой и мороженым, ничего нет — все здесь работает на выкачивание денег. Телик черно-белый, по экрану бегают тайцы, молятся, но «новые русские» и тут находят себе развлечения.
Новые эти русские типы — нисколько они не лучше своих дедов и отцов-коммунистов и околокоммунистического быдла. «Новая срань» — вот какое бы им пристало имя! Пьют, жрут, серут где попало, ходят в золоте. Одного молодого я спросил, знает ли он, как называется золотая, роскошная, в то же время безвкусная вещь, навешенная на его бычью шею, на разляпанную волосьем и наколками украшенную грудь. «А на х…? — мутно и сыто глядя на меня, спросил он. — Расскажи, если знаешь».
И я рассказал, что это диадема Македонского, пришедшая на Восток вместе с его тупым и надменным воинством. «Ну и х… с ним, с Македонским-мудаковским этим!»
В холле гостиницы, обняв большую мягкую игрушку, второй вечер безутешно плачет дитя. В шелковом, воздушном платьице, с косичками, украшающими ее головку, в косички вплетены красивые восточные штучки. Безутешно плачет модно одетое дитя — родители ее где-то развлекаются.
Сообразительные, еще своими партноменклатурными родителями наученные эксплуатировать ближнего своего деляги. Выведут дитя в холл, бросят, зная, что найдутся сердобольные «старые» русские и приберут дитя.
И вокруг плачущей девочки толпятся эти самые «старые» русские, ахают, возмущаются, мужики сулятся родителям морду набить.
Вот одна из них, еще молодая, тоже разодетая модно, появляется в холле, возмущенно восклицает:
— Опять?!
— Тетя Таня! Тетя Таня! — бросается к ней девочка. Молодая женщина с сердитым выражением на лице подбирает девочку, со слезами тянет ее к себе и спасает весь вечер, пока родители, пьяненькие, беззаботные, вернутся домой.
Таня же еще и ищет их по всей гостинице. Родители предусмотрительно не говорят, где их комната. Нечаянная нянечка несет спящего ребенка в «рецепцию», ночью родители незаметно забирают дитя к себе, сунув дежурной тайке зеленую купюру, говорят «сенкью», а утром, завтракая, лениво повествуют, что были в ночном платном заведении: