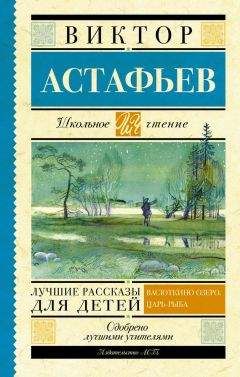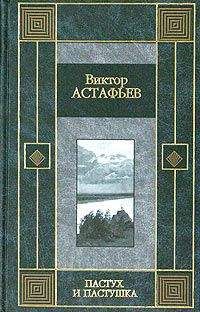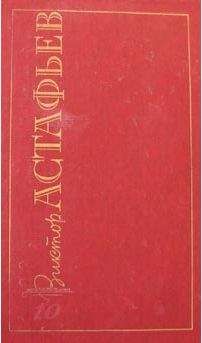Виктор Астафьев - Затеси
Опять самосожжение
Эта картина навсегда.
Едем мы из Ашхабада в горы, на речку Фирюзу. Солнечно, светло вокруг, поля хлопчатника, сады в подгорье — все-все в каком-то благостном зеленом покое, в долгожданной благоухающей умиротворенности.
А в той стороне, где пустыня, — слепящее солнечное марево. Что-то в нем плавает, дрожит, переворачивается, размывается, растекается иль рвется в клочья. Оттуда, как из только что закрытой русской печи, веет пеклом.
Но здесь, в подгорье, все захлебывается цветом, зеленью, вроде бы не сеяно, не сажено, само собою, по Божьему велению, все тут растет и само себе радуется. Нечастые, бедные строения из глины, с вытоптанной вокруг рыжей землею выглядят неуместно и странно: как так убого и уныло можно жить и бытовать среди такого роскошного убранства! Реденькие животные — козы, овцы да куры, пытающиеся что-то вырыть из засохшей глины и сорного песка среди слепых жилищ, — тоже унылы и тощи, в свалявшейся шерсти, в грязном и редком пере. Но в хлопковых полях и виноградниках пестро и празднично от стаек детей. Однако они не праздно гуляют по близлежащим полям, они трудятся.
Я попросил остановить машину, мы пошли в хлопковое поле посмотреть на тружеников-детей. Шестеро их, младшему годика четыре, старшей девочке, возглавляющей трудовую артельку, годов пятнадцать. Прекратили работать дети, настороженно ждут нашего приближения, опустив руки с кетменями. Самый младший, с махоньким кетменьком, этаким железным серпиком, подрубил рукой солнышко. Смотрит, ждет. На нем рубаха или платьишко до пят — донашивает одежонку, доставшуюся от старших. Предводительница артели с косичками, перевитыми разноцветными тряпочками, при нашем приближении, сознавая себя уже женщиной, наискось прикрыла концом платка лицо. В треугольник, из-под низко на лоб опущенного платка, смотрят на нас прекрасные глаза миндалевидного разреза и цвета иль оттенка этой вот неуловимо сияющей земли — коричневое, с прожелтью и тысячелетней тьмою, сгущающейся за зрачками, уже в самой глубине глаз.
Давней и древней загадочностью многих веков залегла мглистой тенью не осознаваемая девочкой вся печаль непостижимого Востока, то вихрем проносящегося по земле, то усмиренно, молитвою и постом, перемогающим века. Но всегда, во все времена, здесь оставалось неизменным существо по названию женщина. Среди многих дивных слов в русском языке есть совершенно дивное — взор, и этим словом только и возможно обозначить глаза восточной женщины, уже присутствующей во взгляде девочки-хозяюшки.
Мы поздоровались. Девочка, не опуская платка, ответила нам за всю артельку и напряженно ждала, что будет дальше, что от нее требуется.
Мы спросили, чего дети ищут и вырезают в междурядье хлопчатника. Девочка, на животе которой был фартук, узлом разделенный на две половины, показала нам и пояснила, что в одной половине фартука растения и корни для животных, в другой половине — зелень, коренья, цветы, побеги для стола и приправ к мясу. У трех девочек тоже были фартуки с зеленью, у парней — старые школьные, уже без крышек, ранцы, надетые через плечо.
Босая артель, запыленная и загорелая до черноты, переминаясь, ждала, когда, удовлетворив свое праздное любопытство, гости удалятся. Мы начали прощаться. Я, боящийся с детства змей, спросил девочку, как они справляются с этим страхом, тут змеи-то — не то что на нашей горе. Девочка все тем же отдаленным голосом почтительно пояснила, что, если змею не трогать и не наступать на нее, она тоже никого не тронет.
У меня в кармане был пакетик с леденцами, и я решил угостить младшего работника. Он опустил голову, убрал руки за спину. Тогда девочка тихо, но повелительно сказала ему два слова, и он охотно протянул мне сложенные вместе ладошки. Я хотел высыпать в ладошки мальчика леденцы, но они от тепла слиплись, и я сунул малому работнику пакетик.
Мой товарищ, давно здесь работающий собкором центральной газеты, сказал ребятишкам поощрительные слова на родном их языке, и мы пошли к дороге. И пока не сели в машину, молчаливая артелька смотрела нам вслед. Потом дети снова пошли босыми ногами по уже горячей земле; маленькие труженики, часто наклоняясь, подрезали растения кетменями.
Я еще раз восхитился туркменскими ребятишками и сказал, что вчера на ковровой фабрике, в цеху за вышивкой, застали мы одних девочек. При нашем появлении бесшумно разлетелись они нарядными бабочками, и тут же появились их мамы, с ходу заявили, что девочкам очень нравится вышивать, поэтому мамы уступают им свое место и пьют чай, общаются культурно.
— В Туркмении бытует поговорка, — сказал мне мой приятель: — «Лучше быть узбекской собакой, чем младшим туркменом в семье»… Бабаи, что играют в шахматы на обочинах всех дорог, заездят, на побегушках загоняют младшего сына, пока он подрастет или появится младше его брат, девочек же сперва нещадно эксплуатируют мамы, затем мужья, превратив их в рабынь.
Попутно рассказал, почему он позавчера срочно ездил в пустыню, в кишлак, забытый, заброшенный и Аллахом, и советской властью.
В пустынном кишлачке, затерянном среди песчаных барханов, работает бригада скотоводов колхоза «Свет коммунизма». Завелся здесь передовик соцсоревнования, и время от времени ездит он на разного рода слеты, собрания, совещания. Недавно вызвали его в Ашхабад, на слет лучших скотоводов. Он вынул из старинного ящика Золотую Звезду Героя соцтруда, сел на верблюда и не спеша поехал в далекую столицу.
Изнывающий от скуки, мучающийся от переедания местный бабай-бригадир, как только верблюд передовика исчез за барханами, пошел в его кибитку и при малых детях изнасиловал его юную жену, не знающую, что такое сопротивление мужчине.
Бабай-передовик славно похлопал в ладоши на почетном собрании победителей соцсоревнования, посидел с друзьями-передовиками в чайхане, выпил, отдохнул и, умиротворенный, возвращается домой. Ему еще в предгорье, на отгонном пастбище, пастухи сообщают, что его жена — билят, спуталась с бабаем-бригадиром.
Передовик-бабай приехал домой, ни слова не говоря намотал на руку косы молодой жены, уволок ее за кибитки и мазанки в то место, где оправлялись жители кишлака, и бросил в песок.
Пока он ходил за канистрой, покорная женщина, встав на колени, сложив у груди ладони лодочкой, еще успела попросить Аллаха, чтобы он пустил на небо ее грешную душу.
Она и горящая не решалась кричать, лишь зажато стонала, но, когда совсем припекло, посмела взвизгнуть покинуто, безнадежно. До самого высокого, нежно-голубого весеннего неба пустыни взвился ее отчаянный вопль.
Мой приятель рассказал, что такие происшествия в республике довольно часты. Все они расследуются и всегда именуются самосожжением. Собкор центральной газеты, перед которым заискивали и которого боялись местные воры и стяжатели, партийные баи и около них шныряющие проныры, был прикреплен к правительственной даче на дивной речке Фирюзе; еженедельно получал богатый продуктовый заказ — словом, дорожил своим местом.
— Статья твоя в газете конечно же будет называться «Опять самосожжение!» — съехидничал я.
— Да, опять, — грустно отозвался мой приятель. — Ты догадливый! — И надолго умолк.
А машина наша катила и катила по сухой накатанной дорожке. По ту и по другую сторону свежо, сочно зеленели поля. И всюду бродили стайки ребятишек с кетменями, по расселинам горных распадков цвел миндаль, на склонах краснели тюльпаны. Ребятишки и их не щадили, выкапывали крепкие луковицы дивных горных цветов на домашнюю потребу. Вскинутся, посмотрят вслед черной машине — и снова наклоняются к земле.
Мы ехали на раскопки древнего фирюзанского государства, когда-то цветущего, райского, но безоружного царства.
Оголтелые полчища завоевателей смахнули и это маленькое царство с земли мимоходом, будто муху с окна, вырубили фирюзанский народ, сожгли строения, сады и умчались в пыльную даль времен. Каждый воин дикой орды должен был зарубить в Фирюзе не менее шестисот человек.
Конница долго стоять на месте не может, она выедает все, вплоть до земли. Воины торопились. К ним выстраивались безмолвные очереди. Уставши от работы, иной догадливый воин выбирал из очереди мужчин покрепче и заставлял рубить своих соплеменников, детей и жен.
И думал я под шуршание машинных колес, глядя на приближающиеся горы, за которые ушла и рассеялась в пространстве древняя конница, что, в общем-то, с тех пор мало чего переменилось на земле.
Восторженный идиотизм
Моя жена, выросшая на Урале, в краю вечнозеленых помидоров, любит есть, однако, помидор крупный, ядреный, мясистый и вообще, являясь росту маленького, любит все естественное, натуральное, чтобы жевать было чего. И вот возят целую шайку писателей по Молдавии, показывают им всяческие достижения, и допрежь всего сельскохозяйственные. Увидев целое поле спелых помидоров, частью уже сгнивших, частью еще висящих на кустах, потрескавшихся от яростной и яркой спелости, маленькая женщина подняла помидор, забрызганный дождями, вытерла ладонью и спросила директора совхоза: