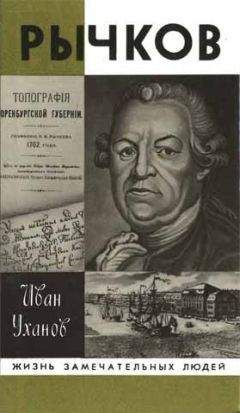Иван Уханов - Играл духовой оркестр...
— Мне не до шуток, Федор Васильевич… Хотите посмотреть мои новые работы?
Фролов взглянул на часы, поднял воротник плаща. На город опускалась стылая осенняя тишина, улицы пустели. Дома его ждала такая же холодная пустота. С Романом было легче: их роднили неудачи.
Шли быстро. В душе Фролов улыбался, предвкушая, как пылко Роман будет защищаться в стенах своей мастерской. Интересно взглянуть на его новые полотна. Что они? Выражение того, «чего и сам не знаю», или бунт талантливого новатора, вечно стремящегося превзойти себя?
Роман был из тех молодых художников, которые после окончания института еще не нашли себя, не проявили в деле, но успели заиметь поклонников. Он выступал на студенческих вечерах, иногда по радио и телевидению. Ему аплодировали, его рекламировали — не за то, что он создал, а лишь за то, что он намерен, готовится и, конечно же, скоро создаст. Разговоры о его творчестве были интереснее самого творчества.
Как-то Фролов смотрел телерепортаж из мастерской молодого художника, ловкие и изобретательные операторы подавали Романа в различных ракурсах, диктор восторгался сочностью цвета, грубоватой силой рисунка, романтической приподнятостью сюжетов, талантливых, но еще не законченных полотен.
И Фролову, сидящему у телевизора, вспомнилось вдруг деревенское детство, как ребятня с криками, свистом и улюлюканьем подбрасывала в небо коршуненка, но тот, распластав слабые в редких перьях крылья, падал на землю. Еще бросали, и он снова — улюлюкай не улюлюкай — планировал вниз…
Двухкомнатная холостяцкая квартира на втором этаже была загромождена чистыми и начатыми холстами, на полу валялись банки, флаконы, тюбики с краской.
— Извините за кавардак. Но в любом беспорядке — антисистема, антипроизвол. А это уже настраивает… Хотя за этот хаос мне намылят шею. Через год вернутся из Ташкента родители. Отец у меня инженер-строитель. А пока все это мое.
Роман включил свет.
— Сядьте сюда и смотрите, что я покажу. И, пожалуйста, забудьте, что перед вами я, Роман Валуев, бездарь, салага, донкихот. Вы на всесоюзной художественной…
…Прямоугольный холст наполовину залит оранжевой мглой, верхняя часть его строго черная, от нее частоколом свисают вниз, почти не растворяясь в оранжевом, желтые конусы…
На лице Романа — гордое ожидание.
Фролов, прищурившись, долго и сосредоточенно рассматривал полотно.
— Цветовое ощущение передано неплохо, — начал он неуверенно. — Найден колорит…
— В этом — всё! Спасибо, старик. Я думал, вы, чертов реалист, не поймете. — Роман резко жестикулируя, засуетился, шагнул к холодильнику, вынул бутылку. — По одной, — сказал он, разливая по рюмкам коньяк. — За цветовой эффект!.. Видите эту оранжевую плавность тона? Чувствуется толща раскаленного песка, континентальная сухость знойного дня. Вы окутываетесь впечатлением…
— Постой-ка, Роман. А чем докажешь, что это день? Небо у тебя черное.
— Небо? Это трусики! Группа девочек сидит на пляжной скамейке. Их ноги сочно напитаны солнцем. Подобно песку, они излучают тепло и, как бы взаимодействуя, растворяются друг в друге… Трусики при первом впечатлении сливаются в одну черную линию.
Фролов взглянул в строгое лицо Романа и постарался сдержать улыбку.
— Хорошо, — сказал он, — но как узнать по этим ногам, кому они принадлежат — мальчикам, девочкам или женщинам? Почему фигуры изображены по пояс?
— Важно было избежать два цветовых центра в картине: желтые ноги и желтое туловище. Впечатление раздвоилось бы: субъект исчез, остался бы объект. А его точное отражение — это фото. Но я не фотограф.
— Когда ты наблюдал натуру — эти ноги, они тебе нравились?
— Очень красивые юные ножки.
— Жаль, — вздохнул Фролов. — Жаль, что субъективного образа объективно красивых ножек не получилось. — Извини, Роман, но… это есть мутная, без какой-либо резкости и сюжета фотография — кадр, рожденный самопроизвольным щелчком затвора аппарата.
— Вот именно произвольным! — воскликнул Роман — ибо всякое деспотическое намерение, предвзятость, выбор — ловушка для художника. Сюжет, идея — это каноны плоскоумных. Главное — форма, цвет. Художник мыслит красками…
О, звонкий аккорд голубого с зеленым,
Братанье белил и несхожих цветов!
Из тюбика огненный лезет змееныш… —
Роман опрокинул рюмку в рот, ладонью рубанул воздух:
Удар по холсту — и татарник готов!
Он унес картину в другую комнату. Появился с новым холстом в руках.
— Один ноль не в вашу пользу, — строго сказал он Фролову. — Первую мою вещь вы восприняли не совсем четко. Вы игнорируете диктатуру глаза, но ведь именно глаз видит в вещах то, что он ищет, а ищет он красоту.
— Бесцельный поиск… Зачем? — Фролов почувствовал, как им снова овладевает тоска и раздражение. — Глаз ищет лишь то, что ему подсказывает разум. А ты исключаешь контроль ума. «На что тебе голова?» — «Я ей ем»… Да?
— А! Контроль, контроль. — Лицо Романа болезненно скривилось. — Глаз художника — вот главное в искусстве.
— Хорошо. Ну а как же образ? Не создается же он путем прямого списывания с натуры.
— Да. Но вы зачем-то ходите на завод, тащите в мастерскую сталевара и лепите с него портрет. Гипсовая репродукция. Глиняная фотография объекта. Простите, кому это надо? Дублировать жизнь, загромождать зрительный мир копиями того, что люди ежедневно видят и без помощи художника, от чего устает их глаз… Я не покладистый ишак для перевозки «здравого смысла сюжета», а художник. Я хочу озвучить мир радостной симфонией красок, и они заглушат смертный рев атомных ракет!.. Вот смотрите.
Роман поставил к стене картину. Она являла собой подобие географической карты, походила на полотна ранних кубистов: зеленые и желтые остроугольные лоскуты, пересеченные узкими цветными лентами, возле которых кое-где пестрели россыпи игрушечных домишек. Все это проступало сквозь жидкие облака, устилавшие почти треть картины.
— Земля с высоты семи тысяч метров. — Роман широко развел руками. — Здесь, думаю, без пояснений все понятно.
— Но ведь это та же фотография объекта, только с более дальнего расстояния. — Фролов поднялся из кресла и закурил. Упоминание Романа о «Сталеваре» еще ощутимее всколыхнуло в нем смутную тоску, гложущее недовольство всем окружающим и самим собой. — Хоть ты и взвился в облака, но от деталей не ушел, без них нельзя.
— О нет! — с яростным весельем крикнул Роман. — Моя мысль крупна. Я мыслю чистыми образами: речка — синяя, дорога — красная, поля — желтые. Три чистых вечных цвета. Я не дроблю впечатление. Целое, утонув в деталях, гибнет. Бабочки, листочки, ручейки… Это мелочь для ботаников. Художник выше этого. Он глядит на мир с орлиной высоты.
Роман устало плюхнулся в кресло: он весь истек словами.
— Спуститься бы тебе к земле пониже, — сухо сказал Фролов, мрачно расхаживающий по комнате. — Мысли твои, Роман, так высоки и неземны, что боюсь, ты уже никогда не сможешь что-либо увидеть и открыть, даже если угодишь на луну. К земле, братец, пониже…
— На земле сейчас не осталось ничего, что могло бы питать фантазию художника, — хрипловато и обессиленно произнес Роман и потянулся за коньяком. — Художник — открыватель, но открывать сейчас нечего. Достижения современных точных наук сузили пространства, приблизили таинственные дали. Люди устремились в космос, на Луну, ибо на земле, как заметил известный спортсмен и эстет, в конце каждого исследовательского маршрута их ожидает туристский кемпинг. Верно! Надо дерзать. Не топтаться на планете-старухе, а открывать новые миры, куда влекут нас фантасты и поэты.
— Да-а, здорово, — только и сказал Фролов. Он шагнул к столику, выпил дожидавшуюся его рюмку коньяку. Острое тепло хлынуло в грудь, в голову. И опять навалилась горячая смутная обида. Вот он стоит перед Романом, выслушивает эпигонское пустозвонство одержимого и, как старший по возрасту и опыту, не может противопоставить ему что-то крепкое, убеждающее, свою нынешнюю правду. А какова она, эта правда? Есть ли она?
«Да, есть! — Фролов, привыкший думать вслух, чуть не выкрикнул эти слова. — Есть правда! Она в том, что я не могу, вернее, не хочу спорить с тобой, Роман… Новаторство без цели, поиск ради поиска, как пахота ради самого процесса пахоты — дорога в никуда… Тебя вот уж и в космос потянуло. Это очень неудобная для искусства область, Роман. У художника была и будет одна лишь возможность — мир человеческих отношений. Пока есть человек, пока он жаждет перемен жизни, борется за них, художнику обеспечено великое пространство для открытий».
Фролов подошел к окну и уставился в изрешеченную огоньками темноту.
«Вас, молодых, не словами, а примером убеди. А я сейчас не готов для этого. Но я не буду наставлять тебя, да и не имею права: у меня сейчас та же вина, что и у тебя. Что говорить о каких-то замыслах, когда у нас во всем только умысел, не душа, а тщеславие движет нами в работе…»