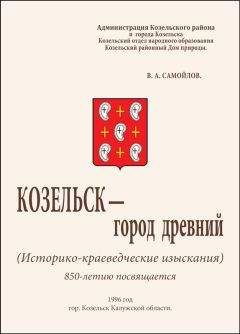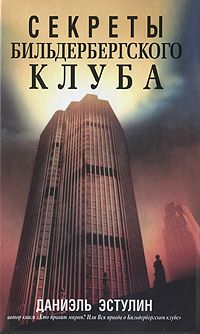Анатолий Ким - Собиратели трав
До Хок-ро снилось, что он молод, у него крепкие, быстрые ноги, ловкие руки. Он стругает рубанком пахучую липовую доску. На окраине Осака, куда он приехал из Кореи на заработки, под железнодорожным мостом находится мастерская, в которой изготовляют шкафчики для игрушек и кукол. Хозяин ценит и любит такого хорошего работника и придумал новое имя для него — Мацумото. А он, Мацумото, или До Хок-ро, знай почесывал острым рубанком свистящую доску, пока не брызнула из нее кровь. И тогда он испугался: как бы не рассердился на него хозяин. Он и то сердится, хозяин, что Мацумото — Хок-ро поглядывает на молодую клейщицу, имя которой уже давно позабыто. То была кудрявая, худенькая, большезубая девушка, очень бедная родственница хозяина. Наверное, за то, что она нравится бездомному работнику, хозяин вогнал ее каким-то образом в доску, поставил доску в угол мастерской, а он, не зная того, взял ее и стал обстругивать. И вдруг появился толстый полицейский. «Мацумото!» — закричал он с порога. «Да, господин!» — «Мацумото, ты должен идти в солдаты, на войну!» — «Но я ведь старый уже», — отвечает Хок-ро и хихикает. Он действительно старый, весь сморщенный, и стоит он, прижимая спиною к стене липовую доску. Ему неловко и страшно: надо бы поклониться полицейскому чину, но нельзя, потому что тогда упадет доска и все откроется. «Но я ведь старик», — вдруг снова вспоминает он, и ему становится совершенно безразлично, упадет доска или нет. И он чуть отодвигает спину от стены. Доска падает.
До Хок-ро проснулся, поворочал глазами в темноте, ничего не видя вокруг, и вскоре заплакал. Он вспомнил, что клейщицу ту звали Тэруко, она однажды загнала себе в руку щепку, и он бросился к ней на помощь, но никак не мог вытащить занозу из-под посиневшей кожи. Тогда он нагнулся к ее руке и зубами выдернул эту занозу. И только тут хлынула кровь из раны. Тэруко зажала ее рукою и посмотрела на До Хок-ро так, как никто после ни разу не посмотрел на него. А заплакал старик потому, что вспомнил свадьбу Тэруко. Хозяин выдал ее за рыбника, и на свадьбе было весело, и До Хок-ро веселился, суетился и усердствовал больше всех. Прошло много времени после свадьбы, и однажды она пришла в гости к хозяевам. Когда ей пора было возвращаться домой, пошел дождь, и хозяйка отправила До Хок-ро проводить ее с зонтиком. И они шли по мокрой улице, а он держал над нею раскрытый зонт. «Мацумото, — сказала она, — ты же весь вымокнешь». — «Ничего, госпожа», — ответил он, и далее они не произнесли ни слова. Она была в праздничном, ярком кимоно, на высоких колодках — гета. До Хок-ро шел босиком, закатав до колен штанины… С тех пор прошло уже около полувека, наверное, и он много раз забывал ее имя и вновь вспоминал, как вот и сегодня ночью.
Но вполне может быть, что и это ему приснилось: что он вспомнил имя Тэруко и заплакал. Потому что было совершенно темно и тихо, и непонятно, на самом ли деле он проснулся или продолжает спать. Пройдет еще немного времени, и явь, и сон станут для него совершенно неразличимы, и он снова забудет облик и имя Тэруко, и увидит он вместо нее двух лягушек, скачущих возле лужи верхом на палочках, или какую-нибудь другую кошмарную чепуху.
На рассвете протяжно заскрипела дверь, затем стукнула, и До Хок-ро опять проснулся и на этот раз увидел в серой полумгле неясную высокую фигуру человека и не понял сначала: кто это? Память его была временно пуста после многих сновидений, улетучившихся в миг глухого удара двери, и лишь постепенно стал понимать До Хок-ро, кто он такой, где находится, на чем спит… Его зовут До Хок-ро. Он старик, в молодости пожил в Японии, там звали его Мацумото, теперь он в заброшенном доме, на песчаной косе. Рядом с косою широкая полоса светло-серого песка, туда в жаркий день приходят из города сотни людей, никого из них не знает старик, а если и знает, то и это все равно ни к чему, потому что он ходит среди них ни на кого не глядя, — смотрит всегда себе под ноги. И этот вошедший был одним из них.
ГОЛУБОЙ ОСТРОВ НАД МОРСКИМ ГОРИЗОНТОМ
Масико в этот день пришла рано — люди еще только начали появляться на пляже. Она вынула из сумки чистое полотенце и зеркало, затем бритву и ножницы, завернутые в одну бумагу, и все это разложила возле сидящего на постели человека.
— Вот, бери, постриги. Чего ходишь как старик? — сказала она, указывая на его отросшую густую бородку. — А вы, дядя Хок-ро, снимайте рубаху, я постираю. — И она положила на зеркало кусок желтого мыла — мыло легло на мыло.
— Скоро я уезжаю, — объявила она и улыбнулась: да, люди, она уезжает, уезжает к мужу. И пусть что угодно говорят подруги из пошивочной мастерской, она никого не станет слушать. К ней пришло письмо, наконец-то пришло письмо! Заведующая не соглашалась дать расчет — пусть берет отпуск и съездит сначала, убедится сама, что ее ожидает, а потом увольняется, если не поумнеет. «Нет, Марина Сергеевна, дайте мне расчет, я все равно уеду…» «Любимая, глубоко почитаемая супруга моя Масико, — говорило письмо, говорило голосом ее мужа, и было слышно по этому голосу, что хлебнул он горя, ее чернобровый красавец. — Любимая… Печальный звон сигнального колокола будит нас поутру, и я просыпаюсь в холодном бараке, и не знаю, то ли роса пала на мою казенную подушку, то ли это слезы вымочили ее — слезы раскаяния, уважаемая моя супруга Масико. Ибо даже во сне я не перестаю казнить себя за то, что вел себя недостойно и причинил столько горя вам, — поэтому и не писал, не осмеливался писать. Я заслужил свою судьбу и себя нисколько не жалею — мне жалко вас, что мучаетесь и растите нашу дочь одна, без мужской помощи… А может быть, Масико встретила другого, более достойного, и теперь слушает его советы?» И в голосе мужа слышатся тревога, тайная обида и ревность, ревность. Суровые зимы мучают стужей, а жарким летом пот заливает глаза, донимают на лесной работе комары и мухи. Пища арестанта скудна, хлеб всегда черствый, но не голод мучает его, не холод и зной, а поздняя боль раскаяния, никому не нужная, наверное, теперь… Строгий конвой стережет их неусыпно, днем и ночью на вышках стоят солдаты с ружьями, за колючей проволокой бегают страшные собаки, гремя цепями. Когда по пяти человек в ряду проходят они через поселок — колонна усталых рабочих в черных одеждах, — женщины смотрят на них грустными глазами, но нет среди них знакомых дорогих глаз, которые одни только могли бы утешить его. Шесть лет осталось ему еще, и он не знает, как прожить, перенести их… А она знает, как прожить эти шесть лет! Каждый день, зимой и летом, в дождь и снег, будет стоять она с краю дороги, по которой их проводят. Она будет стоять и смотреть на него, а в хорошую погоду возьмет с собой и дочку. Она будет надевать лучшее платье и дочку нарядит как следует — пусть отец видит, какие они у него. Она устроится в этом поселке портнихой, а не будет такой работына любую пойдет… Она все продаст и уедет, возьмет с собой только аккордеон. А жить в этот город они не вернутся, — когда в тот день он выйдет из ворот тюрьмы, все трое уедут куда-нибудь подальше. И там, вдали от всех, кто знал их горе и позор, они останутся навсегда и сотворят свою добрую сказку. А памятью обо всех этих печальных годах останется его сверкающий, певучий аккордеон, на котором и дочь научится играть у отца, у нее хороший слух, она уже и сейчас так забавно поет песни, всем на удивление.
Человек вдруг громко рассмеялся, придвинув зеркало к самому лицу.
— А знаешь, Машенька, я не буду, пожалуй, сбривать бороду, — сказал он. — Все равно ты уезжаешь.
— Ты что?! — возмутилась Масико. — Неужели не стыдно?
— Нет-нет, мне так нравится, — заупрямился тот, — я только немного подправлю. — И он стал щелкать ножницами у лица, задрав бороду, косясь в зеркало. — Ну как, хорошо? — спросил он после, вертя головой из стороны в сторону перед нею, улыбаясь.
— Как бандит, — рассмеялась Масико.
Она расстегнула и сняла с себя халат, осталась в синем купальнике, стала смотреть по сторонам, куда бы повесить халат, и повесила его на гвоздь, торчавший из стены у двери.
— И ты дай рубашку, — приказала она потом человеку, когда До Хок-ро, топчась у печки, стащил с себя рубаху и передал ей.
И вот они оба, старик и пришелец, сидят на завалинке, подставив солнцу плечи, упираясь ладонями в теплые доски, а возле ручья, который течет от водопада и вливается в море рядом с песчаным мысом, видна черная голова Масико, мелькают ее руки. Высоко над ними тихо кружится синее небо с несколькими белыми облаками. Над морем, которое в этот день тусклого, темного цвета, летает чайка, и она кажется значительной в этом пустынном мире, потому что, кроме нее, в небе никого не видно. Человек, касаясь заросшим подбородком плеча, смотрит на старика, тот, прищурив глаза, смотрит из-под кепки на птицу. Чайка тонко, печально, страстно вскрикивает и плавно машет крыльями. Человек разглядывает изломанное тело старика с детской грудью, со смешными клоками седых волос у ненужных мужских сосков. Человек задумался: вот рядом чудо, чья-то жизнь, что течет через это бедное тело, как ручей по своему руслу, а вон там, где этот ручей широко размыл песок берега, втекая в море, сверкают на солнце гладкие плечи, весело взмахивает рука, стучит палка по белью, и доносится сюда запоздалое — пак! пак! пак! — движения и звуки, связанные с другим чудом. Старик в широких серых штанах, изодранных понизу в бахрому, из них торчат потрескавшиеся ступни с сиротливо поджатыми пальцами. Похоже, что он задремал, надвинув на черные, скорбно изломанные брови козырей кепки. У старика чудной вид, тело его изношено и замучено. А вот та женщина сильна, хороша, лицо ее удивительно похоже на ее душу. У нее три имени — русское, японское и корейское, — но ни одно из этих красивых имен не определяет ее — все они случайны. Имя — это слово из нескольких звуков. Она и у него спросила, как зовут, и он сказал — произнес это недлинное слово. Она удовлетворенно кивнула, произнесла вслух его имя, запоминая, а ему стало грустно, будто она утвердила, произнеся это слово, что-то такое незначительное в нем и малое, принимая эту малость за главное и тем самым отобщая[1] его от незыблемо постоянной — и в то же время меняющейся каждое мгновение — большой жизни моря, неба, земли, солнца, частью которого он хотел бы всегда ощущать себя и в эти последние свои дни. Заставив прозвучать это слово, женщина вновь вытащила на свет божий то, что должно было вскоре исчезнуть, потерять связь с понятным окружающим миром и с простым теплом всечеловеческого добра, которое она с веселым бездумьем несла в себе: так птицы несут в горлышках свои песни. Человек связывает себя со своим именем, но не именем он связан с жизнью. Втайне ему всегда грустно, потому что его — завершенного — еще нет, а ему все кажется, что он должен быть. Это беспокоит древняя память, с которою он появился на свет и которая не проясняется, как бы мучительно он ни напрягал ее. И он ищет себя — на земле, в ночи и на свету, в многолюдье города и в лесу — и творит о себе мифы, не соглашаясь, что он простой сын земли, брат дереву и зверю. Удивленный, остановится он перед бездной, и хорошо, если на краю ее увидит человека, хотя бы жалкого старика, смиренно собирающего раковины на отмели. И хорошо, если он успеет вспомнить вовремя, что когда-то давно, в детстве, жил возле моря, на самом его берегу, в деревянной японской хибарке рядом с пограничной заставою. В тихую погоду голые солдаты купали лошадей, загоняя их в море напротив устья реки. Лошадь упиралась, не шла в воду, пугаясь небольшой волны, солдат рвал рукою повод и колотил ее пятками по бокам. А вдали, на горизонте, появился пароход под высоким пером дыма, и он казался мальчику такой же обычной частью моря, как чайки, рыбы, песок и Камни на берегу, и женщины-кореянки согнувшиеся пополам над блестящей гладью отмели, собирающие раковины, высоко подоткнув на ногах юбки; как старые катера и кунгасы, навечно засевшие в песок на берегу, запах водорослей и соленой воды и особенный, ни с чем не сравнимый вкус морских ежей, которых он собирал на отмели, а потом раскалывал на камне возле старого катера.