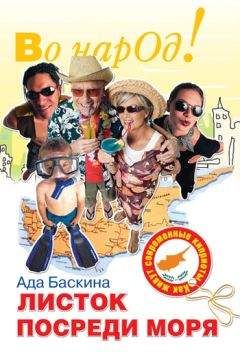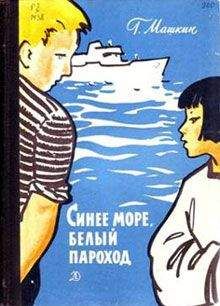Тамаз Годердзишвили - Гномики в табачном дыму
Злоязычники, верно, и меня с Александровым и Пельменевым не обошли своим вниманием — мы тоже давно работаем с «нашим элементом». Обнаружили его, кстати, неожиданно. Сначала производились поиски совсем другой руды; кто-то случайно измерил содержание «стратегического элемента» и закричал — спасайтесь, братцы! Многие слабовольные сбежали, но мы — мы удовлетворились удвоенной нормой молока и стали ломать голову: в какой стороне вести разведку — в восточной, западной, южной или северной? Надеюсь, вы поняли — в том же самом районе, в тех же самых структурах мы искали совсем другую руду, о «нашем элементе» речи не было. А потом, когда ее обнаружили, наш милый директор сосредоточил главные силы на поисках, как мы говорим, «нашего элемента». Теперь, кроме геологов, им заняты ученые и инженеры в самых разных областях науки. Для исследовательских работ, связанных с «нашим элементом», создан целый институт, в собственной гостинице которого я и пребываю, коротая время до встречи с Инкой-секретаршей.
— Не могу я больше сидеть без дела! Разве это работа — сиди и отвечай на звонки! — без обиняков начала Инка. — Мне двадцать лет — думаете, маленькая? Пожалуйста, устройте меня на работу в вашу геологическую партию! Найдется ведь работа и по моим силам?
— Ты рассуждаешь совсем как положительный герой. Люди в Москве стараются остаться, а ты рвешься в тайгу. А потом надоест — и назад в столицу.
— Представьте себя на минутку секретарем дяди Гриши — я слышала, вы называли его так…
— Не могу. С секретарской работой справился бы, конечно, но недостанет вашего очарования.
— Вам шутки, а мне будущее надо определять… — У Инки навернулись слезы. — Пожалуйста, устройте меня в геологическую партию кем угодно.
— Послушай, Инка, у меня и в Москве достаточно друзей, давай попытаемся тут.
— Я там хочу работать, в вашей экспедиции, с товарищем Александровым, с Пельменевым. Нигде больше не смогу работать, не будет мне покоя.
— Не выдержишь! Красиво, прекрасно, но условия слишком суровые, тяжелые, дикая природа. Ты хорошая девочка, хорошенькая…
— Знаю, знаю, что скажете. Я много думала и решила заочно учиться на геологоразведочном в Новосибирске.
— Вижу, подготовилась к разговору…
— Пожалуйста, умоляю вас, подыщите мне что-нибудь.
— Что ж, не стану уверять, что без вашей милости экспедиция не справится со своим заданием, но и для вас найдется работа, даже интересная, если не передумаете, конечно.
Прямо на лоб Инке упала крупная капля дождя. И тут же серый асфальт покрылся темными пятнышками. Пророкотал гром.
— Приятельница моя живет рядом. Ее нет в Москве, но я знаю, где спрятан ключ.
Не знаю, правильно ли я поступаю, но как быть, не стоять же в подъезде, пока будет лить дождь?
— Может, неудобно?
— Удобно! Мы оставим ей записку — поблагодарим за кров, ей будет приятно…
— Вы так уверены… наверное, часто здесь бываете?
Я сладко проспал здесь прошлую ночь, но понять это может одна лишь Наташа. Впрочем, кто знает, может, и она думает, что я…
— У нее пластинки есть и магнитофонные записи. Послушаем музыку.
— Далеко еще?
— Видишь, вот тот дом?
Пока я возился на кухне и готовил бутерброды, Инка включила магнитофон. Медленное танго. Вот, оказывается, в каком настроении была Наташа перед моим приездом. Хотя кто знает, чье душевное состояние выражала эта музыка? Кто последним включал магнитофон? Ревную? Да, это называется ревностью.
— Так вы замолвите за меня слово? Попросите Александрова и Пельменева? Вам они не откажут, — снова начала Инка, опуская руки мне на плечи.
Мы танцуем.
— На любую работу согласна, хоть на физическую, даже лучше будет.
— У тебя белые тонкие пальцы, Инка!
— Думаете, я белоручка? — Инка остановилась на минутку. — Когда надо и когда хочу — все делаю. Стиральную машину чинила, покрышку меняла.
Инка обвила меня руками, и мы продолжали танцевать.
— Покрышку меняла?! — Мне не верилось.
— Честное слово. У «Волги».
— Молодец!
— Увидите, я и в тайге заслужу похвалу, я умею работать, — сказала Инка, кладя голову мне на грудь.
Я погладил ее по волосам. Инка вскинула на меня глаза. Наши взгляды встретились.
Я продолжал танцевать.
Дождь за окном все лил.
— Осточертело быть секретаршей. Каждый день одно и то же, одно и то же, а годы уходят.
Я промолчал. Инка остановилась.
— Знаешь, — Инка перешла вдруг на «ты», — все, что болтают про меня и дядю Гришу, ложь. Выдумки все.
— Знаю, — сказал я спокойно. Отошел от Инки, выглянул из окна.
Инка стала возле, склонила голову мне на плечо.
— Может, сочтешь меня глупой, не поверишь, но я — счастлива…
И, заметив мое удивление, пояснила:
— Впервые встречаюсь с таким, как ты.
— С каким таким?
— Порядочным, верным, преданным.
Я смешался. Инка заметила мою растерянность.
— Будто не понимаешь. Ты любишь Наташу, любишь так сильно, что другие для тебя не существуют. Это — счастье.
Я привык держаться с Инкой фамильярно, по-свойски, но приводить ее сюда, кажется, не следовало.
— Ты права… Откуда тебе известно ее имя?
— Нам все известно, — усмехнулась Инка.
Дождь утихал.
— Что, и тебе поручено следить за мной? Даниилу понадобились новые сведения о безропотном объекте эксперимента?
— Ответила б тебе, не будь так счастлива! Я счастлива, потому что убедилась — есть порядочные, чистые, верные своей любимой мужчины! Ты всегда будешь мне надеждой…
— Прости, Инка, не идеализируй меня, я вовсе не ангел.
— Молчи, — Инка прижала к моим губам длинные теплые пальцы. — Я пойду.. Прибрать тут?
— Нет, не надо.
Да, сам виноват, зачем привел ее сюда…
— Ты не ангел, Гурам, это точно, но ты первый из мужчин, кого я могу уважать, единственный пока, кому могу верить, доверять. И если ты понимаешь слово «счастье», как все простые смертные, поймешь, что значит для меня этот вечер. Честное слово — счастлива. Неловко говорить об этом, высокопарно получается, но искренне говорю. Правда, Гурам. До свидания.
Я остался один, испытывая горечь, грусть и чуть печальную радость. Нет, со мной осталась моя Наташа, которая весь вечер ангелом-хранителем стояла за спиной! Хотел было прибрать, но передумал, оставил все как есть, — две тарелки, два стакана…
Потом взял бумагу и крупными буквами написал:
«Наташа!
Завтра улетаю. Я свинья. Плохо придется мне без тебя.
Целую. Гурам».В аэропорту Домодедово было настоящее столпотворение — как говорят, собака хозяина не сумела бы найти. С утра из-за плохой погоды полеты были отменены, возобновились всего час назад, скопилась тьма народа. Самолеты, хоть и с опозданием, один за другим отправлялись в очередной рейс.
Весь день мотался я по магазинам, выполняя поручения товарищей. Вынув длиннющий список, я еще раз проверил, не упустил ли чего. Не достал кофемолку. Обрушит на мою голову громы и молнии супруга Пельменева! Не поверит, скажет: ни на что ты не способен, и заведется… Тверди сколько хочешь: «Нельзя достать!» Скажет: в Москве давно позабыли слова «нельзя достать!».
«Внимание! Объявляется посадка на самолет Москва — Багульник, вылетающий рейсом номер сто два. Выход через секцию…» — и так далее…
Сяду сейчас в исполинский мощный лайнер, и за пять часов перекинет он меня через просторы, на преодоление которых в не столь уж давние времена требовалось пять месяцев.
Самолет грозно взревел, устремился вперед, взмыл в небо.
Миловидные стройные блондинки снабдили нас необходимой информацией и мятными конфетами. Поудобней расположившись в кресле, я залюбовался белым облачным морем за бортом самолета. Облака казались сверху очень плотными — хоть шагай по ним. А над белым морем безбрежная безоблачная синева. Все тучи и все горизонты остались на земле. Когда гляжу из иллюминатора самолета на ясное сияющее небо, то забываю обо всем неприятном, будто все беды остались на земле. И болезнь тоже. И, безмерно счастливый, здоровый, лечу прямо к радости. А радость обитает высоко-высоко в небе. Слетает временами к людям и тут же уносится назад в свою обитель. Добраться бы до ее жилья — разорил бы! И заставил бы ее переселиться на землю, жить среди простых смертных. Почему нельзя оставить где-нибудь свою болезнь? Как было бы здорово! Правда, одно такое место люди придумали — больницу с белыми палатами, просторными окнами, но ведь не любую болезнь оставишь там… Болезнь болезни рознь…
Удивительное вытворяет со мной моя болезнь, когда вспомнит, навалится. Астрономическое время останавливается. Останавливаются Земля и планеты. Зато с бешеной скоростью начинают крутиться бесчисленные невидимые колесики, закрепленные в мозгу и теле. Завертится одно, и следом закрутятся все остальные, будто сцеплены друг с другом зубчиками. Это колесики души! Физическое бытие не удлиняется ни на миг, но душа разветвляется, разрастается, простирается вширь, то есть старится. Потому-то и уверяют, видимо, некоторые, что им все двести лет! По-моему, это вполне вероятно. Душа немыслимо разрослась и состарилась, а тело — нет. И так мучительны, обостренны мои чувства, ощущения, все, что я испытываю! Такого напряжения всех сил хватило бы состарить десяток людей!