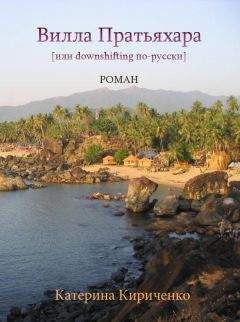Петр Кириченко - Четвертый разворот
Когда товарняк умчался и открылся переезд, они поехали дальше, но Никодим Васильевич успел зачем-то рассмотреть лицо женщины, оно было веснушчатым, молодым. Платок на ее голове был повязан так, что получался козырек от солнца.
— Считай, приехали, — буркнул шофер, сворачивая от переезда вправо, — считай, что дома...
Никодим Васильевич кивнул головой и засмотрелся на первые дома Выселков; эта улица была совсем новой, и дома на ней стенами и окнами выказывали новизну, и заборы кое-где были еще даже некрашеные и янтарно горели на солнце. Участки под застройку нарезаны были так, что улица тянулась вдоль железной дороги. Во многих дворах стояли времянки, а около них лежали кирпичи и шлакоблоки или же кругляк. Один дом сразу же кинулся в глаза Никодиму Васильевичу тем, что был выкрашен в яркий желтый цвет и напоминал этим будку у переезда...
— А мы у вокзала будем проезжать? — спросил Никодим Васильевич и, не дав шоферу ответить, продолжал: — Мне бы где-нибудь остановиться надо...
— У вокзала не будем, — степенно ответил шофер. — Мы за артээсом налево пойдем, а остановиться... Та где ж? У Селифонихи! Во!.. — проговорил он быстро и обрадованно, чему-то улыбаясь, добавил: — У нас и готель есть, так что ежели...
— А где живет эта... Селифониха?
— Та где живет?.. — переспросил шофер. — Тут и живет, и благодать у нее — сад хороший, да... Словом, спокойно отдыхать будете, довольны будете... А я, — продолжал шофер, видя, что попутчик молчит, — как шкап доставлю, так вас и отвезу... Чего там...
Последние слова он сказал так, будто Никодим Васильевич собирался возражать, и еще раз усмехнулся незаметно, и даже кепочку потрогал пальцами, помял козырек. Видно, была у него какая-то тайная и приятная мысль.
Какое-то время они ехали по асфальту, а после свернули в узкую, зеленую и пыльную улочку, на углу которой был вырыт колодец с белым бетонным кольцом вместо сруба и зеленым крашеным козырьком над ним. Под козырьком стояло большое цинковое ведро и блестело на солнце. Проехав пять или шесть дворов, шофер притормозил, остановился. Прямо перед ними была долина, густо поросшая травой. Воды в долине было мало, больше грязи. Вот этой грязью и швырялись друг в друга двое братьев-близнецов, одетых в одинаковые красные рубашки. Им было лет по пяти, и занимались они этим делом самозабвенно, кричали от восторга, и были заляпаны с головы до ног.
— Во, разбойники! — спокойно заметил шофер и стал подавать машину задним ходом. Дети, будто услышав его слова, оставили лужу и понеслись к машине. — Поглядите за ними, а то под колеса сунется кто, — сказал шофер и притормозил.
Никодим Васильевич вылез из машины и остановил бегущих близнецов; постоял с ними, пока грузовик медленно въезжал во двор.
— Вас как зовут? — спросил он братьев, но те не ответили и только настороженно на него глядели, а потом повернулись и опять рванули к луже. — Ну, бегайте, — сказал еще Никодим Васильевич и пошел во двор.
Из времянки, стоявшей в глубине заросшего травой огорода, низкой, крытой толем, уже вышел высокий здоровый мужчина лет сорока и открывал борта кузова. Верно, потому, что он сразу же увидел шкаф, лицо его сияло.
— Ну вот, Добрыня, — говорил шофер, когда подошел Никодим Васильевич, — я свое сполнил... так что владей, радуйся... А кровати и у нас есть, скажешь — привезу...
— Спасибо! — отвечал на это Добрыня густым голосом, повернулся к Никодиму Васильевичу и сказал: — Здравствуйте!..
Одет Добрыня был несколько необычно: на нем ладно сидела выглаженная армейская гимнастерка с блестящими пуговицами, а на голове был потертый железнодорожный картуз; несмотря на лето, Добрыня ходил в сапогах, начищенных и блестящих. Блестела и пряжка ремня. Лицо у него было открытое и приветливое, красное, с мясистым носом, рост у Добрыни был немалый, такой, что он мог заглянуть в кузов грузовика, не приподымаясь на носках. Что он, кстати, сразу же и сделал... А поздоровавшись с Никодимом Васильевичем, еще раз оглядел шкаф и прогудел:
— Хороший...
Шофер тем временем вскочил в кузов и стал там что-то перекладывать, расчищая место у кабины... Никодим Васильевич, вспомнив опасение шофера о том, пройдет ли шкаф, критически оглядел распахнутую настежь входную дверь времянки и на глаз определил, что если и войдет, то еле-еле. И сразу же подумал о том, что можно предпринять, если шкаф все же не войдет. Добрыня, взглянув, будто угадал его мысли и успокоил:
— Вымерено!..
Он произнес это слово с радостью, взглянув на Никодима Васильевича победителем. Никодим Васильевич не смог не улыбнуться и подумал, сколько радости может доставить человеку такая простая вещь, как платяной шкаф. И очень удивился, когда увидел, что внутри хаты было абсолютно пусто: ни кровати, ни стола, ни чего-нибудь другого, чем принято уставлять жилище; хата внутри даже перегородок не имела, так что можно было увидеть все четыре пустых угла. Слева от двери помещалась небольшая плита с духовкой из красного неоштукатуренного кирпича, на ней стоял черный чугунок: справа, вдоль стены, лежало несколько досок, служивших, видно, хозяину постелью, доски были прикрыты домотканым полосатым рядном...
Шкаф определили в дальний угол, и, как только его установили, так он сразу же и заблестел. Никодиму Васильевичу показалось, что в хате посвежело, и он сказал об этом.
— Это уж да, — отозвался шофер, — светлая вещь!..
Добрыня заулыбался на эти слова, погладил шкаф рукою и, сказав, что, как водится, такую покупку положено окропить, посмотрел на Никодима Васильевича вопросительно и зачем-то поправил под ремнем гимнастерку.
— А вот и невозможно, — сказал шофер и, повернувшись к Никодиму Васильевичу, предложил: — Поехали?
— Та как же так? — обиделся хозяин. — Вот там бы под сливою и посидели... У меня все готово, а?
Шофер энергично, как-то по-бычьи закрутил головой и сел в кабину, видно было, что ему тяжело слушать слова Добрыни и хотелось побыстрее уехать.
— Лиха не оберешься, — не утерпел он все же сказать, с этими словами они и тронулись, оставив Добрыню любоваться шкафом, пораскрывать все его дверцы, выдвинуть ящики, вдыхая стойкий запах свежего дерева и клея. Никодим Васильевич представлял, как Добрыня, осматривая, найдет связку ключей или же завалявшийся с фабрики шуруп и, быть может, просто золотистую стружку... Ехали они, впрочем, недолго и остановились перед высоким и ладным кирпичным домом, крытым белым шифером, с синими резными наличниками окон. У ворот, будто поджидая их, стояла старушка в белом платке, от чего темное и сморщенное лицо ее казалось совсем черным. Сгорбившись и прижимая к груди две газеты, она пытливо смотрела на них.
— Читаешь все! — крикнул ей шофер, остановившись и не выключая мотора. — Читай, читай, может, там чего и напишут... Я тут тебе квартиранта привез!
Старушка кивнула, пожевала губами, как бы готовясь вступить в разговор, и сказала неожиданно твердым голосом:
— А что кричишь? Привез, так входите.
И распахнула калитку.
— Мне ехать надо, — все так же крикнул шофер, — но ты не забудь!
— Да ладно, — отмахнулась старушка и посмотрела на Никодима Васильевича ясными, совсем не старческими глазами. — Прошу ко двору...
Шофер сразу же уехал, а Никодим Васильевич пошел со старушкой в дом, на большую и прибранную веранду, в углу которой стоял голубой газовый баллон, а чуть подальше от него — белая плита. Сидели за чистым деревянным столом... Селифониха долго наговаривала, как у нее хорошо и спокойно жить, долго расспрашивала, что за человек Никодим Васильевич, откуда приехал и зачем, и в конце концов предложила комнату в доме.
— Но ежели желаете отдельно, — сказала она, — то есть у меня домок в огороде... То стоит пятнадцать!
Никодим Васильевич, чувствуя, как старухе по сердцу такой обстоятельный разговор, неторопливо оглядел «домок», оказавшийся всего лишь небольшим сарайчиком с одним большим и светлым окном. Стены были прохвачены раза два мелом, но глина кое-где все же проступала темными пятнами. В сарайчике стояла узкая железная кровать и стол. Сразу же у двери были вбиты два гвоздя и прикноплена газета — вешалка. Перед дверью в двух шагах росла раскидистая яблоня, ветки ее опускались на крышу сарайчика. «Чего бы и не жить» — подумал Никодим Васильевич и сказал старушке, что остается.
— Вот и хорошо, — ответила она, пожевав губами. — Надо бы для порядку задаточек... А я постелю принесу.
Никодим Васильевич дал старухе десять рублей, и она скрылась в доме, а после как заводная стала носить в сарайчик то постель, то какую-то посуду, стул принесла и чистую клеенку на стол. И все что-то приговаривала, спрашивала, и если Никодим Васильевич отвечал ей, то она кивала и говорила: «Да оно так!» А после, незаметно как-то, и убралась со двора, пошла к соседям. И соседи узнали, что приезжего зовут Никодимом Васильевичем, что в поселок он попал по болезни сердца, отдохнуть ему надо. Соседи, такие же старые, как и Селифониха, участливо кивали головами, но мало что понимали, потому что сами, если случалось заболеть, никуда не ездили, лечились на месте и способами известными. Но раз приехал человек, значит, ему так надо; это они понимали. «Говорит только мало, — печалилась Селифониха, — будто думает все о чем-то... Чудаковатый такой...» На это соседи ничуть не удивлялись, потому что видели в своей жизни немало чудного, привыкли.