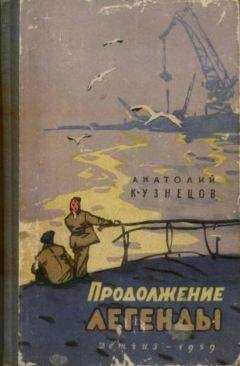Анатолий Кузнецов - Селенга
Однако, оставаясь наедине с собой, он страдал, что у него малое образование, знал, что на одной дисциплине в искусстве долго не проживешь, не представлял, на что ему в своей жизни решиться; и здесь в жюри, несмотря на всю строгость и нахмуренность физиономии, он мучился своей неотесанностью, тоже дрожал — но не столько перед председателем, сколько перед непостижимо эрудированной аспиранткой. Ему казалось, что фактически все решает она, а старый бесхарактерный композитор лишь поддакивает.
Программа составилась бесконечно длинная. Члены жюри предусмотрительно плотно позавтракали; на табуретке перед столом стоял графин лимонада. На сцене сменялись хоры, чтецы, танцоры, снова хоры. Изрядный успех выпал на долю куплетистов библиотечного техникума, а также двух пастухов с обыкновенными дудками. Среди вокалистов особых голосов не обнаруживалось. Отличился ансамбль доярок из совхоза. Тщательно подготовленная кружком промартели, богато оформленная и занявшая чуть не полчаса сцена из «Ревизора» прошла вяло, успеха не получив.
Все выступления композитор смотрел спокойно, внимательно-невозмутимо, лишь изредка ставя какую-то закорючку в программе.
Аспирантка ерзала, принимала разные позы, часто поглядывала на композитора, словно пытаясь угадать, что он думает о том или ином выступлении; то вдруг строчила авторучкой в блокноте, то с серьезным видом, откинув голову, смотрела на сцену критически оценивающим взглядом.
Парень — художественный руководитель — уставился в стол перед собой и ни разу не посмотрел на сцену, только иногда, слушая, недоуменно, с досадой поднимал густые брови.
Вышла на сцену девчонка лет пятнадцати-шестнадцати. Малая, угловатая, с розовым лицом и толстой льняной косой, которую ради важности случая — а скорее, чтобы казаться старше и солиднее — закрутила бубликом на затылке. Вынесла большой старый баян — потертый, с латаными мехами.
Девчонке забыли подать стул. Она постояла, оглянулась и ушла за сцену. В зале стали смеяться. Она сама принесла стул, уселась, спрятавшись за большим баяном, и, положив пальцы на кнопки, притихла.
В зале опять прошел шумок. Но девчонка оборвала его резким, будто с перепугу, движением, растянув мехи баяна. У инструмента был благородный тембр.
Она заиграла всем известную, игранную и переигранную «молдовеняску». Когда-то она выучила этот танец по слуху, потом он надоел ей, она его забыла. Потом, в Доме культуры, опять выучила, уже по нотам. И ведь попробуй выучи и сыграй его как положено: легко, стремительно, естественно, чтобы дыхание перехватило, чтобы все прекратили шушуканье и удивленно взглянули на сцену. Это был ее труд, ее открытие, и она гордилась своим трудом, она всем хотела показать, какой это сложный танец, «молдовеняска», и как он зажигателен, красив, хорош.
Парень — художественный руководитель поднял глаза, подался вперед, сжавшись, затаив дыхание впился взглядом в мелькающие пальчики девчонки; чувствовалось, что он очень эа нее беспокоился, хотел, чтобы она понравилась, переживал, как бы она не сбилась… Аспирантка переменила позу, положила авторучку и посмотрела на девочку с одобряющим и даже ласковым видом. Композитор потер переносицу, отыскал в списке строку: «Мокина Нина, СМУ № 1, ученица, баян», подумав, нацарапал на полях какую-то особо замысловатую рогульку.
Аплодисменты были лишь чуть-чуть длиннее обычных, но в дальнем углу, там, где находилось устойчивое ядро, несколько нар крепких рук, славно не желая сдаваться, все хлопали и хлопали в наступившей тишине, пока на них не зашикали.
После выступления девчонки объявили перерыв.
Художественный руководитель поспешил за кулисы ругать обоих. Композитор вышел на пустой балкон и наконец с наслаждением закурил сигарету с золотым кончиком. С балкона был виден почти весь городок — бурые ряды крыш, голые деревья, водокачка и пожарная вышка. У шеренги машин внизу бузотерили мальчишки, нажимая сигналы; шофер выскочил, прогнал их, бранясь. Площадь перешли два очень самодовольных человека — безобразно разъевшиеся, в одинаковых белых картузах, с одинаковыми истрепанными портфелями под мышкой. Какая-то непоколебимая тупость, беспросветный идиотизм были написаны на их важных лицах. Хромой старик протащил на веревке коровенку, она оставила на тротуаре лепешки.
Композитор вспомнил, что хотел поговорить с маленькой баянисткой, затушил сигарету и отправился искать ее.
Она сидела в проходе за сценой, забившись в угол пыльного, с облупившейся позолотой бутафорского дивана, и отчаянным усилием не позволяла себе заплакать. Композитор посмотрел на диван и сел рядом с ней. Она перепугалась, встала и руки опустила по швам. Он велел ей сесть.
Сначала он выяснил, кто она, кто ее учил, долго ли училась. Оказалось, с ней занимался сам художественный руководитель.
— Он хороший педагог? — спросил композитор.
— Но он не виноват, что я плохо играла! — с болью воскликнула девчонка. — Он меня очень хорошо учил, и все объяснял, и строго опрашивал. Это я одна виновата, что так подвела!..
Она не выдержала и наконец заревела, захлебываясь, отчаянно, по-детски.
Композитор беспомощно оглянулся, потряс ее за плечо.
— Ну, будет, будет, — пробормотал он. — Это у тебя нервы, это бывает у новичков после выступления. Все очень хорошо, и играла ты лучше других. Я бы даже оказал — играла хорошо.
Он не любил превосходных степеней и не употреблял их.
Смотр продолжался до позднего вечера. Аспирантка устала строчить в блокноте, завинтила авторучку и спрятала ее в сумочку. Ведомость председателя заполнилась закорючками, ввиду их большого множества пришлось некоторые вычеркивать. После заседания он спросил у художественного руководителя, где живет баянистка Мокина Нина, что играла «молдовеняску».
— А что? — забеспокоился тот. — Послать за ней?
— Нет, — ворчливо оказал композитор. — Вы, кстати, не знаете, откуда у нее этот старый хороший инструмент?
— В литературе описывались подобные случаи, — заметила аспирантка. — С годами дерево выдерживается, приобретая высокое качество звучания, особенно в средних и низких регистрах; возможно, так и этот баян. Ярче всего это, конечно, у скрипок.
Композитор кивнул головой.
Было уже темно, когда он вышел из Дома культуры. Качались редкие фонари, слабо освещая разъезженные обочины дорог. Композитор был близорук, скверно видел в темноте и все время попадал в грязь. Он долго блуждал вдоль заборов, сердясь, что на углах нет названий улиц, а на домовых номерах ничего нельзя разобрать.
Мокина жила в одноэтажном, вросшем в землю домишке. На стук открылась дверь, из полосы света бросился круглый лохматый пес, лаял, кидался и мешал говорить. Его загнали в сени и заперли, он там царапался, возмущенно скулил, а гость, пригнувшись, вошел в чисто вымытую жаркую горницу.
Первое, что ему бросилось в глаза, это бесчисленное множество фотокарточек по стенам — одиночных и в общих рамах, где их было налеплено видимо-невидимо; все рамы были украшены вышитыми полотенцами. На комоде красовался пук ярких бумажных роз, а над ним — самая крупная фотография, выцветший портрет молодого военного с кубиками в петлицах.
На лавке у окна стоял старый баян в неуклюжем ящике-футляре, настолько потрепанном, что дерматин торчал из него, а вместо застежек имелась ржавая замочная накладка; на футляре валялись гребешок и щетка для волос.
Нина распустила дурацкий бублик на затылке, с длинной косой она показалась композитору приятнее.
Мать Нины — худая, сутулая женщина — настороженно, но не удивляясь подвинула гостю табуретку и предложила нагреть чаю.
От чая композитор отказался и запросил, как они живут. Выяснилось, что их только двое в доме, отец умер в сорок пятом году. Прошел невредимым всю войну, вернулся домой, слег и в одну ночь помер «от сердца». Да, это после него остался баян, и девочка маленько балуется. Конечно, разных симфоний она не умеет, но ноты понимает, также и сольфеджио начала и музыкальную литературу.
Мать старалась говорить умными словами, держалась очень вежливо, с немного напыщенным достоинством, как бы давая понять, что и они люди культурные, лыком не шиты и никакие композиторы им не в диковинку.
Гость слушал ее и думал, что эта не старая еще женщина, должно быть, немало в жизни хлебнула всякого. У нее были длинные руки с вздувшимися венами, острые локти, большие кисти с обломанными ногтями на пальцах.
— Ваш баян мне понравился, — сказал композитор. — А девочка хорошо играет. Ей нужно серьезно учиться. Я, собственно, и зашел по этому делу.
— Выйди, Нина, — неожиданно велела мать.
Нина, сидевшая до сих пор тихо, как мышонок, выскользнула в сени, — там послышался торжествующий собачий лай, хлопнула наружная дверь.