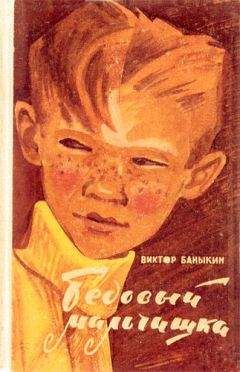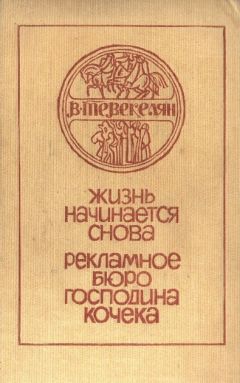Виктор Баныкин - Лешкина любовь
Помню… да, все помню — словно вчера было — привалился я спиной к стене, к пиджаку, который только что повесил на вешалку, и стою… Стою и не знаю, что мне делать. Слышу, мать заговорила, спокойно и сдержанно: «Почему же, Степа, ты об этом долго молчал? В трудное для себя время узнаю страшную эту новость, хотя сердце и давно чуяло что-то недоброе. Трудно мне будет носить в себе новую жизнь от человека, который так надругался надо мной. Ты ведь и Олешу не любишь, ты никого не любишь, кроме себя. Кто-кто, а я-то тебя уж раскусила… бездушный ты человек, не зря у тебя и фамилия такая — Деревянников». — Мать, помню, замолчала, а я все стоял и стоял, не двигаясь с места, как столб. Потом она снова заговорила — все так же спокойно, но чуть тише: «Сцен я тебе устраивать не стану, давай только разойдемся. Олешу я возьму с собой… Мы как-нибудь и одни, без тебя проживем». Но тут отец закричал, закричал о том, что развода он не даст, потому что не хочет портить себе карьеру… на этом слове он поперхнулся, и что было дальше, не знаю… Я не мог больше слушать. Схватил пиджак, кепку, и на улицу. А через три дня мать привезли из соседнего села… Мне сказали: она туда по библиотечным делам ездила. Отвезли ее прямо в больницу… там она и скончалась.
Лешка опустил свои длинные ресницы, сжал губы. Михаил не двигался, не задавал вопросов и, казалось, по-прежнему оставался ко всему безучастным.
— Через два месяца отец привез из Саратова новую жену. Ее звали Матильдой Александровной, — продолжал Лешка, каким-то внутренним чутьем угадывая, что Михаил не пропускает мимо ушей ни одного его слова. — Настоящее имя ее было Агриппина. Об этом я узнал случайно через полгода. Но не в имени, конечно, дело. Дело было в другом — все, чему учила меня мать с детства, все это для Матильды Александровны не имело никакого значения. Она любила красиво говорить о пользе физического труда, облагораживающего советского человека, а сама ничего не делала, нигде не работала. И так на каждом шагу обман и притворство. Вскоре отца избрали первым секретарем райкома. И тут уж Матильда Александровна показала себя в полном блеске. Ей вдруг стала тесной наша трехкомнатная квартира, и мы переехали в большой дом с садом. Выгнали из него детские ясли и переехали без зазрения совести. В кино, на рынок, к портнихе Матильда Александровна разъезжала на райкомовской «Победе»… Стыдно, так стыдно было за нее, если бы ты знал! — Лешка вздохнул. — Этим летом собирался я в деревню на уборочную с ребятами из школы, а Матильда Александровна на дыбы: «Ты там весь оборвешься, а потом все будут говорить: «Посмотрите-ка на сынка первого секретаря райкома — босяк босяком! А все потому, что не родная мать…» На целый час завела шарманку, слушать было тошно. Да я и не послушался, потихоньку улизнул, — Лешка опять вздохнул. — Эх, знал бы ты, как мать мне жалко и как за нее обидно: на кого он, отец-то, ее сменял?.. Умерла мать, и мне около отца делать стало нечего. Придет домой, меня не замечает — живу я на свете или нет, ему и горя мало… Надоела мне эта жизнь, ну хоть на стену лезь! А тут осень подошла, и я говорю себе: «Удирать, брат, надо из этого Хвалынска!» Еще раньше, при матери, загорелся я… Желание одно меня захватило… Скажу тебе наперед: пока я ничегошеньки еще не сделал из задуманного, но твердо знаю: добьюсь своего!
Нагнувшись, Лешка поднял из-под ног кем-то растоптанную детскую игрушку — маленького гуттаперчевого человечка. Он повертел в руках изуродованную игрушку и осторожно положил ее на самый краешек лавки.
— Приехал вот сюда, к дяде, научиться какой-то настоящей работе. Не столица меня влекла и не легкая жизнь, нет. Тут у меня временная остановка. На днях мастер пообещал в том месяце перевести меня в плотничью бригаду. Стандартные дома мастерят в этой бригаде для дальних строек. Наконец-то настоящим делом запахло! А весной, как полетят журавли, снимусь и я… Если уж поеду, заберусь куда-нибудь далеко-далеко… в самую дальнюю сторонушку! Поминай тогда, как звали Лешку Хлебушкина! У меня, знаешь ли, фамилия матери, а не отца, замечу тебе в скобках.
И Лешка, смеясь, шлепнул Михаила ладонью по одеревеневшей сгорбленной спине. От этой звонкой затрещины Михаил как будто очнулся, поднял голову и полез в карман за папиросами.
— Скажи, — заговорил он минутой-другой позже, — скажи… отец не просил тебя домой вернуться?
— Он не просил, а требовал, он даже грозился с помощью милиции водворить меня… в лоно семьи. Только я его не послушался, а обо всем написал в райком комсомола. Про все рассказал, что на душе было. — Лешка провел ладонью по шероховатой, холодной лавке. — Вчера письмо из Хвалынска пришло от приятеля. А в письме вырезка из газеты: оказывается, на партийной конференции прокатили на вороных моего… родителя — так ведь ты все говоришь? Значит, разобрались люди, что он за человек. — Лешка о чем-то подумал. — А мне, признаюсь, как-то жалко его стало… Ведь он, наверно, когда-то хорошим был человеком… Не могла же мать плохого полюбить!
Лешка замолчал. Михаил закурил папиросу и протянул Лешке пачку. Но тот отказался. Вдруг Михаил спросил — прямо, без обиняков:
— А что у вас с Варей? Почему ты нынче не с ней?
— Разговор у нас один вышел… и она сказала… — Лешка перевел дух, кашлянул: — Она сказала: «Чтобы я тебя больше не видела!»
— И ты… поверил?
— Она, знаешь, как сказала?
— Дурак! — брякнул Михаил. — Да она же тебя любит, ты понимаешь, любит!
— Сам дурак… выдумщик, — сказал Лешка и встал. — Пойдем-ка по домам, а то мне завтра на воскресник.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Жирные караси лежали в плетушке, устланной ежевичником — широкими сочными листьями с колючими ворсинками.
Лешка смотрел на живых, все еще бьющихся карасей, смотрел и не мог нарадоваться удачливому улову.
«Увидит Славка, весь побледнеет от зависти», — думал он, беря на ладонь скользкого, тяжелого, словно слиток потемневшего золота, карася. А карась трепыхнулся, подпрыгнул и встал на хвост.
— Хлебушкин, — вдруг басом заговорил карась, — ты зачем свалил щебень у парадного?
— Как у парадного? — от ужаса холодея всем телом, сказал Лешка. — Я в кузов грузовика свалил. Это кто нибудь другой…
Внезапно куда-то исчезли и плетушка и говорящий карась — а сам Лешка уже летел, как метеор, по вселенной, мимо загадочных небесных светил. У него захватывало дух от скорости полета среди мрака и хаоса… Вот Лешка приблизился к солнцу, испепеляющему вокруг себя все живое. Лешке хотелось пролететь мимо солнца стороной, но какая-то неподвластная ему сила толкала и притягивала его к мировому светилу.
— Ой-ой, я весь горю! — истошно закричал Лешка, прикрывая руками лицо от палящих лучей.
Но вдруг и солнце пропало. Лешка на секунду открыл глаза и увидел склонившегося над собой бледного, испуганного дядю Славу.
— Пить, — еле пошевелил опаленными зноем губами Лешка и опять полетел, полетел вниз головой теперь уже в бездонную морскую пучину…
Вновь Лешка пришел в себя утром следующего дня. Над ним парила сизая голубка в белых пятнышках, точно забрызганная сметаной. Махая крыльями, голубка навевала на Лешку прохладу, и ему от этого было легче дышать.
— Какая ты добрая, — сказал он и открыл глаза.
Рядом сидела Варя и махала над его лицом газетой.
— Который час? — спросил Лешка, нисколько не удивляясь присутствию Вари.
— Половина десятого, — сказала она и улыбнулась. — Алеша, ты поесть хочешь?
Лешка не на шутку встревожился.
— Проспал! — застонал он. — Мне же к восьми на завод… Это я после воскресника устал и проспал.
Лешка и не подозревал, что в постели он лежал уже третьи сутки.
— А ты не волнуйся, нынче праздник, — сказала находчивая Варя. — Или забыл?
Но Лешка уже спал, почмокивая пересохшими губами. Варя взяла со стола апельсиновую дольку, поднесла ее к Лешкиным губам и чуть надавила на сочную мякоть. Глубоко вздохнув, Лешка облизал губы, теперь влажные, сладко-кислые.
А к вечеру Лешка проснулся от голода, звериного голода, какого он еще никогда в жизни не испытывал. Он покосился влево и увидел дядю Славу, сидевшего на корточках у подтопка. Дядя Слава смотрел своими грустными карими глазами на огонь и о чем-то думал.
И Лешке вдруг стало жалко дядю Славу, жалко больше, чем себя, и он чуть не заплакал, на минуту позабыв о своем голоде.
Дядя Слава, будто почувствовав на себе пристальный взгляд племянника, повернул голову, и глаза их встретились.
— Как? — радуясь чему-то, спросил дядя Слава и потер руки.
— Есть хочу… прямо-таки помираю с голоду!
Дядя Слава еще больше обрадовался. Теперь все лицо его улыбалось, и улыбка эта делала лицо дяди Славы совсем юным, мальчишеским.
— Насчет еды… мигом все организую, Олеша! Тут Варя такой куриный суп сварила… язык проглотишь, — говорил он, суетясь и бегая по избе. — Ей-ей, язык проглотишь!