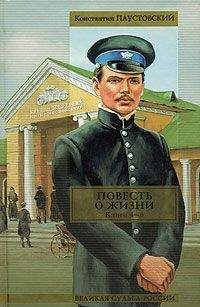Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
Вадик тоже остановился, посмотрел на немцев, углы губ у него опустились, задрожали, и он громко, по-детски заплакал.
— Ничего, хлопчик, — пробормотал возница. — Может, и не так скоро, а все одно отольются им наши слезы.
Он дернул за вожжи, и телега заскрипела по глубокому рыжему песку со следами немецких подкованных сапог.
На севере, где осталась Россия, густела над порубками розоватая вечерняя мгла. На обочине дороги цвела маленькими островками лиловая кашка. И почему-то от этого стало спокойнее на сердце. «Посмотрим, чья возьмет, — подумал я. — Посмотрим!»
«Гетман наш босяцкий»
До поздней осени я прожил в Копани, потом уехал в Киев, чтобы устроиться там и перевезти в город маму и сестру.
Устроиться мне удалось не сразу. В конце концов я начал работать корректором в единственной более или менее порядочной газете «Киевская мысль». Когда-то эта газета знала лучшие дни. В ней сотрудничали Короленко, Луначарский и многие передовые люди. При немцах же и гетмане «Киевская мысль» тоже пыталась держать себя независимо, но это ей не всегда удавалось. Ее постоянно штрафовали и несколько раз угрожали закрыть.
Я снял две тесные комнаты в небольшом доме около Владимирского собора у чрезмерно чувствительной старой девы — немки Амалии Кностер. Но привезти маму и Галю в Киев мне не удалось, — внезапно город был обложен петлюровцами. Они начали правильную его осаду.
Окна моей комнаты выходили в сторону Ботанического сада. Утром я просыпался от канонады, непрерывно обегавшей по кругу весь Киев.
Я вставал, затапливал печку, смотрел на Ботанический сад, где от орудийных ударов с веток осыпался иней, потом снова ложился, читая или думал. Мохнатое зимнее утро, треск поленьев в печке и гул орудийной стрельбы — все это создавало хотя и не совсем обыкновенное и непрочное, но все же состояние странного покоя.
Голова была свежая, мылся я ледяной водой из крана. Запах кофе из комнаты девицы Кностер почему-то вызывал представление о сочельнике.
В то время я начал много писать. Как это ни странно, мне помогала осада. Город был сжат кольцом, и так же были сжаты мои мысли.
Сознание, что Киев отрезан от мира, что из него никуда нельзя выехать, что осада, очевидно, будет длиться долго, что теперь уже ничего не поделаешь и нужно только ждать, — это сознание придавало жизни легкость и беззаботность.
Даже девица Амалия Кностер привыкла к канонаде, как к устойчивому распорядку суток. Когда огонь изредка затихал, она нервничала. Тишина предвещала неожиданности, а это было опасно.
Но вскоре тихий гром снова начинал опоясывать город, и все успокаивались. Опять можно было читать, работать, думать, снова закономерной чредой приходило пробуждение, работа, голод (вернее — впроголодь) и освежающий сон.
У Амалии я был единственным постояльцем. Она сдавала комнаты только одиноким мужчинам, но без всяких лукавых намерений. Просто она терпеть не могла женщин. Она тихо влюблялась по очереди в каждого жильца, но ничем не выражала эту влюбленность, кроме мелких забот или внезапного тяжелого румянца. Он заливал ее длинное желтое лицо при любом слове, которое могло быть истолковано как намек на опасную область любви или брака.
Она восторженно отзывалась обо всех прежних жильцах и искренне огорчалась тем, что все они, будто сговорившись, переженились на злых и жадных женщинах и после этого съехали с квартиры.
В прошлом Амалия была гувернанткой в богатых киевских домах, скопила немного денег и наняла квартиру. Жила она тем, что сдавала комнаты и шила белье.
Но, несмотря на бывшую профессию гувернантки, чопорности у Амалии не было. Вообще, она была доброй, скучной и одинокой женщиной.
В Амалии меня удивляло то обстоятельство, что к немцам, занимавшим Киев, она, сама немка, относилась враждебно и считала их грубиянами.
Ко мне она относилась с несколько застенчивой симпатией, очевидно, за то, что я читаю и пишу по ночам. Она считала меня писателем и даже решалась изредка заводить со мной разговор о литературе и своем любимом писателе Шпильгагене. Она сама прибирала мою комнату. Потом я находил в книгах то засушенные цветы, то открытку с пышной георгиной. Но в своем внимании Амалия не была назойливой, и дружба наша ни разу не нарушалась.
Только по большим праздникам к ней приходили подруги — престарелые бонны-немки и швейцарки в тальмах с атласными завязками, с ридикюлями и в гамашах.
Амалия вытаскивала стопки салфеточек с вышитыми котятами, мопсами, анютиными глазками и незабудками, раскладывала все это богатство на столе и подавала знаменитый базельский кофе (она была родом из Базеля).
Бонны ели и пили весьма деликатно и вели беседу, сплошь состоящую из восклицаний удивления и ужаса.
В это избранное общество допускался только один мужчина — комендант дома, он же счетовод Юго-Западной дороги, — человек с пышной фамилией — пан Себастиан Ктуренда-Цикавский.
То был всегда петушащийся, стриженный ежиком человечек с нафабренными усиками сутенера и маленькими, как пуговки, заносчивыми глазами. Он носил кургузый синий пиджак в табачную полоску с пришитым к грудному карману лоскутком лиловой шелковой материи, символически заменявшим засунутый якобы в этот карман франтоватый платок. Кроме того, он носил розовые воротнички из целлулоида и галстук бабочкой. Всегда нечистые, эти воротнички из целлулоида назывались в то время «счастьем холостяка». Мыть их было нельзя. Грязь стирали с них обыкновенной школьной резинкой.
От пана Ктуренды исходил сложный запах усатина, табачного перегара и самогона. Мутный этот самогон он гнал из пшена в своей полутемной комнате.
Ктуренда был холостяком и жил с матерью — робкой старушкой. Она боялась сына, особенно его учености. Пан Ктуренда любил поражать этой ученостью жильцов нашего дома и выражал ее несколько витиевато.
— Имею вам сказать, — говорил он таинственно, — что книга Вейнингера «Пол и характер» есть фиксация сексуального вопроса в его наилучшем аспекте.
В своих беседах у Амалии пан Ктуренда сексуальных вопросов не касался, но приводил в трепет гувернанток рассуждениями о божественном происхождении власти «ясновельможного пана гетмана Скоропадского».
Я видел в жизни много дураков, но такого непробиваемого идиота еще никогда не встречал.
Жизнь в Киеве в то время напоминала пир во время чумы. Открылось множество кофеен и ресторанов, где сладостей и еды хватало не больше чем на тридцать посетителей. Но внешне все производило впечатление потрепанного богатства. Население города почти удвоилось за счет москвичей и петроградцев. В театрах шли «Ревность» Арцыбашева и венские оперетты. По улицам проезжали патрули немецких улан с пиками и черно-красными флажками.
Газеты скупо писали о событиях в Советской России. Это была беспокойная тема. Ее предпочитали не касаться. Пусть всем кажется, что жизнь течет безоблачно.
На скетинг-ринге катались на роликах волоокие киевские красавицы и гетманские офицеры. Развелось много игорных притонов и домов свиданий. На Бессарабке открыто торговали кокаином и приставали к прохожим проститутки-подростки.
Что делалось на заводах и рабочих окраинах, никто не знал. Немцы чувствовали себя неуверенно. Особенно после убийства генерала Эйхгорна.
Казалось, что Киев надеялся беспечно жить в блокаде. Украина как бы не существовала — она лежала за кольцом петлюровских войск.
По вечерам я иногда ходил в литературно-артистическое общество на Николаевской улице. Там в ресторане выступали с эстрады бежавшие с севера поэты, певцы и танцоры. Пьяные вопли прерывали тягучее скандирование стихов. В ресторане всегда было душно, и потому, несмотря на зиму, иногда приоткрывали окна. Тогда вместе с морозным воздухом в освещенный зал влетал и тут же таял снег. И явственней была слышна ночная канонада.
Однажды в литературно-артистическом обществе пел Вертинский. До тех пор я не слышал его с эстрады. Я помнил его еще гимназистом, молодым поэтом, писавшим изысканные стихи.
В тот вечер в окна летел особенно крупный снег и, кружась, долетал даже до рояля, отражавшего многоцветную люстру. Канонада заметно приблизилась. От нее звенели бокалы на столиках. Этот тревожный плач стекла как бы предупреждал людей об опасности. Но за столиками курили, спорили, чокались и смеялись. Особенно заразительно смеялась молодая женщина в вечернем платье с узкими, как у египтянки, глазами. Снег таял у нее на обнаженной спине, и каждый раз она вздрагивала и оглядывалась, как будто хотела увидеть этот тающий снег.
На эстраду вышел Вертинский в черном фраке. Он был высок, сухощав и непомерно бледен. Все стихло. Официанты перестали разносить на подносах кофе, вино и закуски и остановились, выстроившись в шеренгу, в глубине зала.