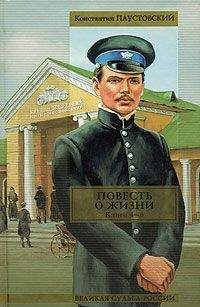Константин Паустовский - Том 4. Повесть о жизни. Книги 1-3
— Вот, товарищ комиссар, какая история, — торопливо заговорил человек в гетрах. — В нашей теплушке оказался вот этот гражданин. Сел в Москве, хотя мы и возражали. Насколько мы знаем у него нет ни пропуска, ни разрешения на переход границы. Его в первую очередь следовало бы проверить. Мы, как лояльные советские граждане, собирались заявить вам об этом. Да вот — не успели.
— А откуда вы заключили, господа лояльные советские граждане, — спросил комиссар, — что у него нет ни пропуска, ни разрешения? Вы его знаете?
— Нет, совершенно не знаем.
— Чтобы клепать — надо знать, — наставительно заметил комиссар. — А этих человечков с бриллиантами в носиках чайников мы уже выудили пять штук за неделю. Фантазия нужна в таких делах! Фантазия!
Комиссар постучал согнутыми пальцами по чайнику.
— Так вот, граждане, пожалуйте. Поговорим. Вещички пока оставим здесь. Сидоров, Ершиков, — сказал он двум вооруженным красноармейцам, стоявшим около теплушки, — взять их ко мне. А этого, — он показал на меня, — пока оставить. И смотрите, чтобы по дороге они ничего не выкинули из карманов. Понятно?
— Понятно! — охотно ответили красноармейцы. — Не первый раз, товарищ комиссар.
Журналистов увели. Комиссар ушел вслед за ними. Я остался в теплушке один. Вскоре красноармейцы вернулись и молча забрали вещи журналистов.
Я ждал. Прошел час. Из стоявшего неподалеку агитвагона вышел голый до пояса, заспанный босой человек с огромной всклокоченной шевелюрой и клочкастой бородой. Он вытащил из вагона лист фанеры, кисти и банки с красками, прислонил фанеру к вагону, поплевал на руки, взял кисть и одним махом нарисовал сажей толстяка в цилиндре. Из живота у толстяка, распоротого штыком, сыпались деньги.
Потом клочкастый человек почесал за ухом и написал сбоку на плакате красной краской:
Никогда буржуйское золотое пузо
Не ожидало такого конфуза.
Матросы в соседней теплушке загрохотали. Клочкастый человек не обратил на это никакого внимания, сел на ступеньку вагона и начал скручивать толстую папиросу из махорки.
В это время пришел красноармеец и потребовал меня к комиссару. Все было кончено. Я захватил свой чемодан, и мы пошли.
Комиссар помещался в товарном вагоне на заросшем одуванчиками запасном пути. В дверях вагона стоял чистенький пулемет.
Комиссар сидел за дощатым столом и курил. Он долго и задумчиво смотрел на меня.
— Выкладывайте, — сказал он наконец. — Куда держите путь и по какому случаю? И документы, кстати, покажите.
Я понял, что надо действовать начистоту. Я рассказал комиссару о своих злоключениях с разрешением на выезд.
— А что касается документов, то у меня самый важный документ — вот это письмо, — сказал я и положил на стол перед комиссаром письмо сестры Гали. — Других нет.
Комиссар поморщился и начал медленно читать письмо. Читая, он несколько раз взглянул на меня. Потом сложил письмо, всунул его в конверт и протянул мне.
— Документ подлинный, — сказал он. — Удостоверение какое-нибудь есть?
Я протянул ему удостоверение.
— Садитесь, — сказал он, достал бланк с печатью и начал что-то тщательно в него вписывать, изредка заглядывая в мое удостоверение.
— Вот! — сказал он наконец и протянул мне бланк. — Это вам разрешение на выезд!
— Спасибо, — сказал я растерянно, и голос у меня сорвался.
Комиссар встал и потрепал меня по плечу.
— Ну, ну! — сказал он смущенно. — Волноваться вредно. Поклонитесь вашей матушке. Скажите, от комиссара Анохина Павла Захаровича. Удивительная старушка, должно быть. Ишь чего надумала — идти пешком в Москву.
Он протянул мне руку. Я крепко пожал ее, не в силах что-либо сказать. Он же поправил ременный пояс с маузером и заметил:
— А того субчика с бриллиантами в чайнике придется разменять. Остальных отпустили. Я распорядился перевести вас в другую теплушку. С ними вам ехать нельзя. Ну, счастливо. Так не забудьте поклониться вашей матушке.
Я ушел оглушенный. С невероятным трудом я сдерживал слезы. Красноармеец, провожавший меня в новую теплушку, это заметил.
— За такого комиссара, — сказал он, — две жизни отдать не жалко. Рабочий с Обуховского завода, петроградский. Ты запомни, как его зовут, — Анохин Павел Захарович. Может, еще где с ним и встретитесь.
Поместили меня в теплушку, где было всего два человека: пожилой певец и худенький болтливый подросток Вадик — нескладный, простодушный и отзывчивый мальчик. Оба они ехали из Петрограда, певец — к единственной дочери, работавшей врачом в Виннице, а Вадик — к маме в Одессу. В зимние каникулы 1917 года Вадик поехал из Одессы в Петроград погостить к деду и там застрял на полтора года. Все это происшествие казалось ему очень интересным.
Мы спокойно доехали до пограничной в то время между Россией и Украиной станции Зерново (Середина Буда).
Около Зернова поезд остановился ночью на полустанке на краю леса. Отсюда тянулись к северу Брянские леса, и здесь рядом находились те милые места, где я так часто бывал в детстве.
Не спалось. Мы с певцом выскочили из теплушки и пошли по проселочной дороге. Она тянулась по опушке леса в неясные ночные поля. Шуршали хлеба, низко над ними загорались и, подрожав розовым огнем, гасли зарницы.
Мы сели на старый, давным-давно поваленный бурей вяз у дороги. Такие одинокие обветренные вязы среди лугов и полей всегда почему-то напоминают крепких стариков в сермягах со спутанными ветром седыми бородами.
Певец, помолчав, сказал:
— Каждый по-своему верит в Россию. У каждого есть свое доказательство этой веры.
— А какое у вас доказательство?
— Я певец. Понятно, какое может быть у меня доказательство. — Он немного помолчал и вдруг запел печально и протяжно:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
Я давно считал, что нет ничего более гениального в русской поэзии, чем эти лермонтовские стихи. И, несмотря на слова Лермонтова, что он ничего не ждет от жизни и ничуть не жалеет о прошлом, было ясно, что сказал он об этом вопреки себе, именно потому, что жалеет о прошлом и ждет от жизни хотя бы обманчивых, но щемящих сердце мгновений.
Над хлебами пробежал ветер. Они заволновались с каким-то сыплющимся шелестом. Сильнее полыхнула зарница, и забормотал спросонок гром.
Мы пошли обратно к полустанку. Я сорвал в темноте какую-то травинку и только наутро увидел, что это душистая кашка, самый застенчивый и прелестный цветок русской земли.
Нейтральная полоса
Утром поезд пришел в Зерново. По теплушкам прошел пограничный контроль и проверил разрешения на выезд.
Нашу теплушку вместе с несколькими другими отцепили от поезда, и старый маневровый паровоз потащил нас к границе, к так называемой «нейтральной полосе». Двери в теплушках закрыли и поставили около них красноармейцев с винтовками.
Наконец поезд остановился. Мы вышли. Теплушки стояли в сухом поле возле путевой будки. Ветер нес пыль. Несколько крестьянских подвод было привязано к шлагбауму. Возчики — старики с кнутами — покрикивали: «Кому на ту сторону, на Украину? Пожалуйте!»
— Далеко? — спросил я старика с редкой бородкой.
Я шел задумавшись. Внезапно я вздрогнул и поднял глаза от резкого металлического окрика:
— Хальт!
Посреди дороги стояли два немецких солдата в темных шинелях и стальных касках. Один из них держал под уздцы хилую, больную кострецом лошадь нашего возницы.
Немцы потребовали пропуск. У меня пропуска не было.
Приземистый немец, очевидно, догадался об этом по моему лицу. Он подошел ко мне, показал в сторону России и крикнул: «Цюрюк!»
— Дайте ему пять карбованцев царскими грошами, — сказал возница, — да и поедем далее до хутора Михайловского. Пусть, собака, не морочит нам голову.
Я протянул немцу десятирублевку. «Но! Но!» — закричал он раздраженно и затряс головой.
— Чего вы ему суете десятку, — рассердился возница. — Я же вам сказал: дайте пятерку. Они только их и берут. Потому что царские пятерки печатаются у них в Германии.
Я дал немцу пятирублевку. Он поднес палец к каске и махнул рукой:
— Фа-ар!
Мы поехали. Я оглянулся. Немцы крепко стояли среди песчаной дороги, расставив ноги в тяжелых сапогах, и, посмеиваясь, закуривали. Солнце поблескивало на их касках.
Острый комок подкатил к горлу. Мне показалось, что России нет и уже никогда не будет, что все потеряно и жить дольше ни к чему. Певец как будто угадал мои мысли и сказал:
— Боже милостивый, что же это такое случилось с Россией! Какой-то дрянной сон.