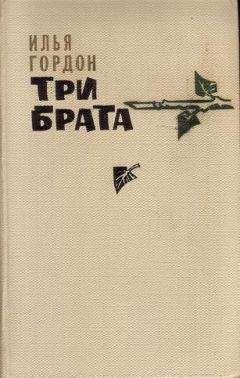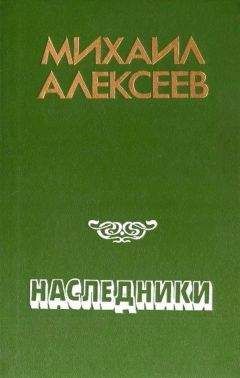Самуил Гордон - Избранное
— Никто еще никого не спрашивал, желает ли он появиться на свет, хотя многие наверняка отказались бы, зная, что их ожидает, что порой делают с человеком: один может запрячь другого, как лошадь в телегу, превратить в раба, поставить на колени, превратить, наконец, в ничто, задушить, и сжечь, и развеять пепел по ветру, чтобы и следа не осталось. Но миру нет дела до того, что человек рождается не по своей воле, не по своему желанию и выбору. Мир с этим не считается и не прощает человеку ни один его долг. Ведь каждый из нас приходит в мир его большим должником, и смысл человеческой жизни, собственно, состоит в том, чтобы успеть расплатиться с долгами, не остаться обязанным миру, который преподносит нам все, что уберегли и сохранили для нас все поколения, бывшие прежде нас. У каждого поколения есть за что платить ушедшим и что спросить с будущих поколений. А нашему поколению тем более есть за что предъявить повышенный спрос! Но за все то, что мы сохранили от прошлого и создали для будущего, мы просим только одного: чтобы больше никто, нигде, никогда не смог превращать человека в раба и делать с ним, что пожелает, — унижать, душить, жечь; и чтобы среди тех, кто придет после нас, не нашлось ни одного, кто отказался бы родиться на свет, если бы его можно было спросить заранее. — Тут голос Уриэля внезапно потерял прежнюю крепость. До Риты едва доходили его слова — он бормотал посиневшими губами, все еще не отпуская ее от себя: — Я остался большим должником, и самое ужасное то, что я уже не успею уплатить долг. Вот чего я боюсь, а не смерти. Не перебивай меня.
Рите снова показалось, что он обращается уже не к ней, и она невольно оглянулась, словно ожидая увидеть позади того, кого Уриэль просил не перебивать его. Она с трудом сдерживала душившие ее слезы.
— Обещаешь передать письмо? Помоги мне освободиться от большого долга, в котором я у этого человека, — Илья Савельевич Лесов зовут его. Нет большей вины, чем унизить, оскорбить человека. Сможет ли он мне простить? Мертвые, как некоторые верят, прощают живым, когда те просят у них прощения. А живые прощают, если у них просят прощения мертвые? Лично ему в руки отдай письмо. И попроси за меня прощения…
Синевато-желтые пятна на его щеках добрались уже до ушей и до век, но Уриэль не поддавался болям, которые теперь, казалось, сунули под пресс уже только его голову. Череп не выдерживает страшного давления. Уриэль чувствует, как череп раскалывается. Вот только что он треснул еще в одном месте. Но Уриэль нашел в себе силы ухватиться за подлокотники кресла, чтобы не соскользнуть на пол и чтобы его голос дошел до Риты:
— Я пришел к тебе не только для этого. Я пришел просить, чтобы и ты меня простила…
— Мне нечего тебе прощать, — остановила его Рита, пряча под длинными опущенными ресницами выступившие слезы, — Ты ни в чем передо мной не виноват. Иначе просто не могло быть.
Кроме вращения коловорота, ввинчивавшегося глубоко в череп, Уриэль уже ничего не слышал, а возвращать обратно в мозг слова, которые он успел оттуда извлечь, было уже поздно. Не хватало сил. И он произнес полусомкнутыми губами, сам не уверенный, что слова дойдут до Риты:
— Не от тебя я прятался в тундре — от порога между нами я прятался, чтобы не переступить его. Жизнь сплошь состоит из порогов, но не все, которые хочется и можно переступить, нужно и следует переступать. А решать, какие переступить можно, а какие нет, человек должен прежде всего сам. Теперь мне уже нечего от тебя скрывать, могу признаться. В последнюю минуту, когда поезд, увозивший меня на два года в тундру, тронулся, мне хотелось выпрыгнуть из вагона, и я бы выпрыгнул, ты знаешь. Но в то же мгновение я словно услышал внутренний голос: «Если ты переступишь этот порог, то потеряешь самое дорогое, что только у тебя есть в жизни. Ты плохо знаешь ее, если думаешь, что она пойдет на то, чтобы из-за нее ты ушел из семьи. А уйдешь — она тебе никогда потом не простит. Этим своим шагом ты можешь только потерять ее…» Вот я и превратил порог между нами в высокую гору — ее уже не переступишь…
Еще мгновение — и Рита, сидевшая рядом, смущенно опустив глаза и прислушиваясь к его тихому шепоту, совсем забыла бы, что так внезапно привело его сегодня сюда, и, как несколько лет назад, припала бы к нему и прижала его голову к своей груди, но тут она услышала:
— Вызови «скорую помощь».
Прислушиваясь к скрипению бурава, все глубже ввинчивающегося в череп, Уриэль, после того как Рита позвонила, сказал:
— Обещай, что не придешь на мои похороны… Запомни меня таким, каким видишь сейчас. Обещай мне это.
Молодой врач «скорой помощи», как только вошел и увидел больного, сразу сказал двум санитарам, стоявшим с носилками у двери, чтобы они принесли из кареты маску, и стал осматривать Уриэля, который с искусанными до синевы губами полулежал в кресле.
— По всем симптомам приступ почечных колик, — обратился врач больше к испуганной и растерянной Рите, чем к самому больному, — они часто дают такие боли. — И, расспрашивая Уриэля, когда и как начался приступ, сказал: — Я могу, конечно, сделать вам укол и снять боль, но это может потом затруднить постановку диагноза.
— Зачем вы надеваете ее на меня? — спросил Уриэль, отталкивая от себя руку врача с маской.
— Вам станет легче. Чем глубже и чаще вы будете дышать, тем скорее уснете.
— Не надо меня усыплять. И носилок не надо. Я сам… — И, отстранив санитаров, Уриэль пошел к машине. Он и Рите не позволил поддерживать его. На улице, у парадного, он преградил ей путь к машине: — Не надо меня провожать. Не забудь позвонить в институт, что я не смогу быть на переэкзаменовке. Пусть кто-нибудь другой примет экзамен. Позвони вовремя, чтобы студенты меня зря не ждали.
Когда машина отъехала уже далеко, Аншин, чувствуя, что от боли вот-вот потеряет сознание, обратился к врачу, разговорившемуся с пожилым шофером:
— Доктор, почему от больных скрывают диагноз их заболевания? Это ведь бесчеловечно.
— Я не понимаю вас.
— Почему вы боитесь назвать мне мою настоящую болезнь? Думаете, я испугаюсь, если вы скажете, что у меня…
— Извините, — перебил его врач, — а вам не кажется, что многие болезни современного человека оттого и происходят, что некоторые больные подсказывают врачу, чем они больны и какое лекарство им надо выписать? Примерять на себя самые страшные болезни, чуть только внутри что-то не так, — недуг нашего времени. Зря вы думаете, что такие боли дает только та опасная болезнь. При почечных заболеваниях боли ничуть не меньше… Дайте-ка мне маску! — крикнул врач санитару и, надев маску на бледное, пожелтевшее лицо Уриэля, приказал ему чаще и глубже дышать.
Когда Урий Гаврилович Аншин к концу дня вышел из больницы, на одной из скамеек в ближнем садике он увидел Риту.
VIII
Никто, кроме Риты, не знал, куда вдруг уехал Урий Гаврилович Аншин. В институте, поскольку он заранее договорился с деканатом, чтобы его лекции перенесли дней на десять позже, вообще никого не интересовало, куда и зачем он поехал. Дома у него это тоже, вероятно, никого не взволновало. Там привыкли к его внезапным отъездам, и не на десять дней, как теперь, а на целых два года. Но взять и уехать перед самым днем рождения, зная, что Мера еще в прошлом году, на его юбилее, сговорилась с гостями, чтобы каждый год, семнадцатого ноября, все они собирались без каких-либо особых приглашений, напомнив при этом гостям, что истинные друзья в такой день не ждут приглашения, истинные друзья приходят сами.
Но все равно. Если бы Уриэль был уверен, что все присутствовавшие тогда на юбилее запомнили день его рождения и все до одного придут к нему и в нынешнем году, — даже и это его не остановило бы. Он просто заранее дал бы знать своим истинным друзьям, что в этот день не сможет быть дома, а будет где-то в дороге. Или, в крайнем случае, дал бы с дороги телеграмму с просьбой извинить его.
Если его отъезд в самый канун дня рождения еще недостаточен, чтобы Мера отказалась от обычая, весьма настойчиво вводимого в их доме, несмотря на все его возражения, то он постарается придумать что-нибудь, чтобы не быть дома в свой день рождения и на будущий год. Только так он, вероятно, может освободиться от выслушивания неумеренных похвал в свой адрес, из вежливости заставляя себя ничем не показывать, насколько отвратительны ему все эти тосты за накрытым столом, все эти внезапные открытия в нем такого, что превращает его чуть ли не в ангела, как было на юбилее. Уриэль еще долго потом удивлялся самому себе: как случилось, что он никого из них тогда не остановил? Лишь одно это заставило его, когда он благодарил гостей, взять всю вину на себя, поскольку в том, как его тогда изобразили, виноват был только он один. Ведь каждый, кто поддается на уговоры, соглашаясь, как он, чтобы ему справляли юбилей, знает заранее, что, кем бы он ни был, о нем будут говорить как об ангеле. Так он ответил гостям, и ему хотелось при этом взмахнуть руками, будто крыльями.