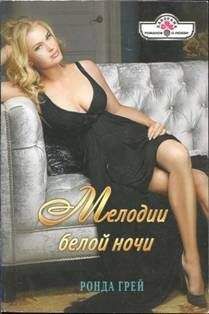Александр Иванов - Не жди, когда уснут боги
Я выдавил вежливую улыбку. Ну и положеньице! Как в детской игре в фанты: да и нет, не говорите, черное с белым не берите… Неужто благодарность настолько ослепляет человека, что он начисто теряет проницательность, путает реальные и мнимые взаимосвязи между людьми? Игра зашла слишком далеко, чтобы давать задний ход. И я продолжал выступать в чужой роли, то кивая, то улыбаясь, то бросая расплывчатые реплики — в зависимости от обстоятельств.
Постепенно, со слов Джумы, обращенных или ко мне, или к Каныш, я узнал историю, которую должен был узнать в этот вечер.
Еще совсем мальцом Джума лишился родителей и попал детский дом. Хилый, с непросыхающим носом и тяжким, рвущим нутро кашлем он вызывал у многих смешанное чувство жалости и отвращения, и его сторонились. Маленькому человечку не хватало ни еды, ни ласки. Он рос медленно, рос болезненным и вялым, а вместе с ним росла отчужденность, заставлявшая забиваться в угол, подальше от сверстников, которые если и обращали на него внимание, то лишь для того, чтобы обидеть. Как капли смолы, дни были злы и черны. И вряд ли судьба его сложилась бы нормально, не появись в детском доме Скворцовы. Без долгих расспросов, в один присест они изменили течение мальчишеской жизни. Переселившись к ним, Джума ощутил такое обилие душевного тепла, чуткости, заботы о себе, что всего этого вполне хватило бы и на его прошлые годы. Иван Ефимович работал главным зоотехником колхоза, Мария Федоровна — учителем русского языка и литературы. Были они тогда еще молоды, своих детей не завели. Джума воспитывался на правах сына. Летом Иван Ефимович частенько возил его на джайлоо, поил кумысом, заставлял прогреваться на сухом высокогорном солнце. Джума окреп, через несколько лет его было не узнать. Когда родился Вовка, Джума закончил сельскую школу и уехал в город. Скворцовы не забывали о нем, каждое воскресенье наведывались в техникумовское общежитие, после чего его тумбочка ломилась от всевозможных продуктов. Приглянулась ему Каныш, привез ее к Скворцовым, там и свадьбу справили.
Что же случилось потом, как потерялся их след? Джума до сих пор толком не знает. Направили его с, Каныш работать как раз на тот участок, где и по сей день живут. Начало работы, особенно на новом месте, словно начало жизни. Пока пообвыкнешь, пока то да се… Короче, когда собрались, наконец, в гости, Скворцовых уже не оказалось в селе. Причина их внезапного отъезда осталась загадкой. Никому точно не было известно, в какие края пролег их путь. Одни говорили, будто бы в Подмосковье, другие — в Сибирь. А вот совсем недавно Джума натолкнулся на газетную заметку, в которой сообщалось, что студент политехнического института Владимир Скворцов занял первое место в каких-то горнолыжных соревнованиях.
— Я сразу смекнул, что это ты. — Джума восхищается своим пророческим даром и не скрывает этого. Полулежа на подушке, отхлебывает чай и самодовольно поглаживает седеющую коротко остриженную голову. — Для Ивана Ефимовича лыжи были, что конь для, джигита. Обещал: вырастет сын, сделаю из него настоящего горнолыжника. Вот и сделал. А раз так, подумал, я после заметки, не миновать тебе наших мест. Лучших склонов нигде не сыщешь.
Теперь поведение Джумы для меня прояснилось. Он много лет прожил в Чонкурчаке, этом крохотном кишлаке в несколько дворов, где не очень-то размахнешься в своей щедрости и доброте. И он изнывал, мучился, почему-то мнил себя должником, который никак не может расплатиться сполна. Причем, с годами ему казалось, будто долг все растет, увеличивается, начинает давить неистраченностью чувств, и он лишался покоя, старался хоть как-то использовать заложенные в нем душевные силы, и потому порой помогал даже тому, кто не особенно и нуждался в помощи, беспричинно расплывался в благодушной и долгой улыбке даже тогда, когда следовало бы кого-то одернуть, на кого-то накричать. Было бы заблуждением думать, что улыбка получалась у Джумы подневольная, натужная, отнюдь. Она смягчала и осветляла его изношенное лицо, обдавая собеседника доверием, участливостью. Вполне возможно, он и во сне мигал улыбкой, как светофор на просторном ночном перекрестке, беспрепятственно пропускающий случайное движение.
У Джумы сохранились фотографии, на которых он был снят вместе со Скворцовыми. Прямо идиллия: сидят развеселые, прижавшиеся друг к другу — семья, да и только. А худенький мальчишка посредине, мало чем похожий на теперешнего Джуму, заворожено уставился в объектив черными глазами-точечками, словно боясь неосторожным жестом спугнуть счастливое мгновенье. С любопытством и вместе с тем оценивающе я разглядывал своих мнимых родителей. Что и говорить, симпатичные люди. Но — ничего общего со мной. Вот только у Ивана Ефимовича, как и у меня, очки на носу. Но этого вроде бы мало, чтобы объявлять его моим отцом.
Воспоминания — словно воздушные путешествия, после которых мы непременно устремляемся к земле, вновь погружаемся в земные дела и хлопоты. Сложив фотографии, в деревянную шкатулку с резной, крышкой, Джума и Каныш стали ухаживать за мной в четыре руки. Меня опять поили и кормили, будто я, двугорбый верблюд и могу распоряжаться проглоченным в течение полумесяца.
Джума спрашивал:
— На кого учишься? На инженера?
— На инженера, — отвечал я, хотя сам, уже имел диплом врача и работал в городской больнице.
— Холостяк, конечно, — озорно щурился Джума. — А на примете кто-нибудь есть?
— Есть, — в тон ему отвечал я, а у самого остались дома жена и маленький сынишка.
— Адрес-то отца оставь. Буду письма писать.
Я стал лепетать о якобы предстоящем у родителей обмене квартиры, после чего, разумеется, я сразу же сообщу их координаты.
Хорошо, что Каныш, милая чуткая женщина, прекратила эту пытку.
— Чего пристал? Человек с дороги, глаза слипается, отдыхать надо.
Я забрался на гору расстеленных одеял и, обложенный со всех сторон подушками, мгновенно уснул. Сон был тревожный, зыбкий, словно гонимая ветром пелена тумана. Разорванные клочья видений уносились вдаль, в забытье, а следом подступали новые, еще более нелепые, сумасбродные, кошмарные. Вот сижу я один в узенькой комнате. Передо мной черное окно. Вдруг оно с треском распахивается и в комнату впрыгивает волосатое длиннорукое существо с оскаленной пастью. Я в ужасе отшатываюсь, замираю, а страшилище скачет вокруг меня, дышит в лицо водочным перегаром и орет: «Я твой сын! С тебя причитается! Гони монету!» Длинные волосатые руки впиваются мне в плечи, трясут, а в ушах гуд: «Я твой сын! Сын!» Наконец оцепенение проходит, я сильно бью по отвратительной щетинистой роже, но кулак вязнет в чем-то мягком, податливом. Раздается дикий издевательский хохот. И я просыпаюсь. Мой кулак, все еще плотно сжатый, лежит, уткнувшись в подушку. Сердце колотится, будто я бегом поднимался в гору.
О, какая тонкая грань между искренностью и фальшью, как легко и незаметно можно перейти ее, думалось мне. Пустенький фарс, случайный перегиб, неуместная шутка — и ты, глядишь, уже забился в паутине, как рыба в неводе. Попасть в нее просто, а вот выпутаться… Как быть, что предпринять, чтобы снять тяжесть с души своей? Своей? Если б только так, то достаточно извиниться, покаяться, выразить сожаление, что с самого начала ошибся, посчитав все это веселым розыгрышем, не более. Но поймут ли меня Джума и Каныш? Не ляжет ли на их души сумрачная обила? Ведь они столько ждали встречи со Скворцовым, надеялись, верили, что это вот-вот произойдет… А может, мое появление, успокаивал я себя, избавило их от лишних томлений, явилось разрядкой, неким исцелением? Ведь нельзя же бесконечно ждать. Газетный Вовка Скворцов, на которого уповает Джума, вполне может оказаться таким же настоящим Скворцовым, как и я.
Сумятица мыслей и чувств не позволяла больше заснуть. За свои грехи мы расплачиваемся вдвойне, наверное, потому, что из-за них обычно страдают другие.
Чуть свет я стал собираться в обратный путь. Джума и Каныш просили задержаться, погостить у них, но я сослался на неотложные дела и наотрез отказался. Оставил им свой городской адрес, подхватил сильно потяжелевший рюкзак и шагнул за порог. Джума провожал меня.
Утро выдалось звонкое, ясное и чистое, с пепельными следами отгоревших звезд на небе и резкими контурами окрестных гор. Понизу, шевеля стебли сухой колючки, прошелся ветерок — предвестник скорого солнца.
Джума остановился. Глаза его смотрели широко и заворожено, как на той давней фотографии, где он, казалось, боялся спугнуть счастье. И я не решился потревожить этот момент, открыться ему, сказать все, что, вероятно, следовало бы сказать. Рывком притянул к себе, коснулся губами обветренной шершавой щеки и, столь же резко отстранившись, сглотнув подступивший к горлу ком, потопал вверх по тропе.
Знакомый шофер, видно, отдыхал. Его сменщик, спокойный кряжистый дядя, плотно запеленатый во все добротное и теплое, делал свое дело безучастно, не тратя попусту ни слова, ни движения. Сто лет проживет, с усмешкой подумал я.