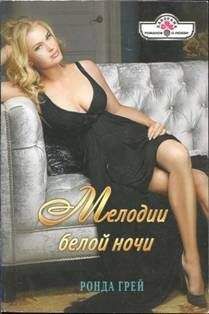Александр Иванов - Не жди, когда уснут боги
Город, который я только что оставил, еще не успокоился после минувшей новогодней ночи. Хлопали двери ранних магазинов, заспанно и нетвердо двигались машины и люди. Праздник продолжался, и каждый, понятно, метил его по-своему.
Шофер пригородного автобуса скосился на меня, как на зачумленного. Да и был в этом кое-какой резон: нормальные люди в компаниях, среди друзей, чинно и благородно посиживают за столом или, в крайнем случае, отсылаются в теплых постелях, а я один-одинешенек тащусь, бог знает, куда и зачем. Он протиснул пятерню под тугую шапку-ушанку, яростно потер чуть пониже затылка, выражая тем самым полное презрение к моей персоне, потом вдруг спросил с участием: «Поругался, что ли?».
Я промолчал. Не станешь же объяснять, что друзья у меня страстные любители лыж, что именно мне выпал жребий покинуть застолье и отправиться в горы на поиски подходящего плато, где бы снег сохранялся особенно долго, может, до самого апреля. Да и потом, думал я, всегда ли надо выводить из заблуждения того, кто заблуждается по своей воле?
Водитель ворочался в тесной кабине, ища какой-то спасительный выход. Он на самом деле хотел помочь мне; бесприютность моя его угнетала. Наконец выпалил:
— Нечего мудрить. Сейчас я отвезу тебя к себе домой. Там гостей полно. Притрешься пока, смена моя и закончится. Ух, и кутнем! Договорились?
Будучи совершенно уверен в моем согласии, он даже как-то растерялся, обиделся, когда я покачал головой.
— Ну и черт с тобой! — буркнул запоздало, нажимая на стартер.
Больше он со мной не заговаривал. И демонстративно полез под сиденье, загремел ключами, когда настал мой черед выходить на последней остановке.
Тропа была давней, ее основательно присыпало снегом, но она все равно угадывалась, как человеческое тело под одеждой. И надо ступать твердо, не оскальзываясь, чтобы тропа оставалась ладной, без изъянов, чтобы идущий следом поминал тебя добрым словом.
Шел я долго и не спеша, попутно прикидывал крутизну, протяженность и заснеженность склонов, их разворот к солнцу. Иные были вполне подходящи для головокружительных спусков, иные не очень, а поскольку время позволяло выбирать, тропа уводила меня все дальше и дальше.
К вечеру, когда солнце, отбыв свой короткий рабочий день, удалилось на покой и, заметно похолодало, открылась просторная подковообразная долина, окаймленная горами. У самого ее изголовья чернели пятна домов, ферм. А какие склоны окрест — на самый изысканный вкус! Все складывалось великолепно. Раз есть дома, значит, есть и дорога, а значит, мы сможем добираться сюда на машине и выигрывать несколько часов для лыж. С ночлегом тоже решить не сложно — вон сколько домов. Я постучался в крайний.
— Чего надо! — услышал недовольный голос, и в дверную щель высунулась голова мужчины с широким утиным носом и помятым от сна или водки лицом.
Я объяснил, откуда пришел и зачем.
— Лыжник! — обрадовалась голова и скрылась за дверью. — Погоди, я сейчас.
Вскоре мужчина появился в шапке и тулупе, коротко бросил: «Пойдем» — и направился к другому дому, что светился окнами метрах в двухстах от нас.
— Тебя давно Джума дожидается.
— Какой еще Джума?
— Наш заведующий фермой. Чукулдукова знаешь?
— Ага, — на всякий случай согласился я.
— Про него и речь. Да вот как раз он сам, легок на помине, — мой провожатый показал на бредущую навстречу фигуру.
— Эй, Джума, — заорал он. — С тебя причитается…
— Все буянишь, — раздалось в ответ.
— А ты газуй шибче. Лыжника твоего веду, понял?
Фигура во тьме заколыхалась быстрее, мы тоже прибавили шагу, и вот уже меня обхватили, мнут крепкие руки, а я остолбенело стою, не, знаю, в чем дело.
— Ну, молодец! А здоровый какой! — восторгался Джума. — Ну, молодец! Нашел-таки! — Потом заторопился: — Иди прямо в дом, порадуй Каныш, а мне срочно на ферму нужно.
— Причитается! — настаивал мой провожатый.
— Успеешь, Сеит. Завтра сочтемся.
Сеит хохотнул:
— Мужской разговор! — и повернул назад.
В доме было жарко натоплено, пахло лавровым листом и кожей; вдоль печки выстроились для просушки детские ботинки. Сами детишки уже спали в соседней комнате. Каныш, тихая и довольно стройная женщина, помогла мне раздеться, усадила на единственный табурет. От внезапного обилия тепла тело размякло, потянуло ко сну. Но я крепился, боролся с дремотой, боясь шлепнуться с табурета или, что еще хуже, проспать ужин.
Вернулся Джума. Потопал в прихожей, обмел с валенок снег и, наконец, вошел в комнату — невысокий, узкоплечий, но жилистый и, как я убедился перед этим, обладающий потаенной силой.
— Каныш! — он потирал руки — то ли холод разгонял, то ли предвкушал, как ошеломит жену. — Узнаешь его? — кивнул в мою сторону.
До этого я просидел, оттаивая, с полчаса, но если Каныш на меня и взглянула, то лишь мельком, не придав моему приходу никакого значения и продолжая хлопотать у печи. Теперь же, после мужних слов, она стала рассматривать меня столь внимательно, словно примеряла ко мне все виденное прежде; однако в ее черных, некогда блестящих, а ныне слегка пригашенных временем глазах так и не вспыхнули воспоминанья. Отвернулась, начала разливать по чашкам исходящее паром шорпо. Лица покачнулись, поплыли в аппетитном тумане. Я сильно проголодался и тотчас принялся за еду. Джума не торопился. Разломал, лепешку на мелкие куски, побросал их в чашку, чтоб шорпо приостыло. Помешал ложкой, сгоняя остатки пара, снова спросил:
— Неужели не узнаешь?
Камыш медлила с ответом. Ей, видимо, не хотелось огорчать мужа своей беспамятностью, но и притвориться, будто угадала меня, она не могла. И всячески старалась уклониться от прямого ответа, пряталась за долгую многозначительную усмешку, которая собирала морщинки на разгоряченных печным жаром щеках. Можно было подумать, что она, в общем-то, понимает, на что намекает муж, но таит в себе, не спешит высказаться.
Джуму не проведешь. Жена всегда под боком, и ее уловки раскусываются привычно, с первого захода.
— Женщина — человек хитрый, — обращается ко мне Джума, в его голосе подрагивает смех. — Но скажи, видел ли ты когда-нибудь, чтобы лиса обманула сокола?
— Видеть не видел, — пожал я плечами, — и все-таки допускаю, что это может случиться. Смотря, какая лиса и какой сокол.
Джума пропускает мою фразу мимо ушей, как охотник, жалеющий патрон на мелкую дичь. Для него важней разобраться со своей женой.
— Странно, — говорит он с неподдельным изумлением, сводя реденькие брови на переносице. — Как ты могла его забыть?
— «Во дает! — уважительно думаю я. — Кого угодно запутает». Весь разговор обо мне я воспринимаю как розыгрыш. Ну, решил Джума пошутковать, выдать меня за какого-нибудь общего знакомого, ну, и пускай на здоровье тешится, пусть хоть чуточку выплеснется за пределы зыбкого однообразия своего бытия. Почему бы и не подыграть ему? Не бог весть какая, но все же плата за гостеприимство. Слишком эмоциональной встрече я тоже не придал как-то значения: в темноте да еще в праздник с кем только не обнимешься.
Оторвавшись, наконец, от чашки, изображаю: недоумение на лице:
— Вспомните, Каныш, ведь сколько раз за одним столом сидели, о чем только не толковали! Вас я признал сразу, вы почти не изменились, тот же взгляд, движения, вот только руки малость погрубели. В следующий приезд захвачу польский глицерин, очень помогает.
Каныш вздохнула, потом вдруг придвинулась ко мне и заговорщически подмигнула, как ученик, ждущий у классной доски подсказки. Но что я мог ей подсказать? Благо, мое замешательство осталось незамеченным. Терпение у Джумы лопнуло, и он воскликнул:
— Это ведь Вовка, понимаешь, Вовка!
У Каныш дрогнули и приподнялись плечи, и все существо, казалось, просияло той взрывной вдохновенной радостью, которое делает просто синее небо весенним, а людей, как бы стары они ни были, превращает в молодых. Она смотрела на меня, и в глазах, на самой заискрившейся поверхности, плескалась благодарность, за что то необычное, глубокое и чистое, как лежащие за окном снега.
Я ощутил неловкость: как будто, перепутав с кем-то другим, меня гладит преданная нежная рука. Но вместо того, чтобы открыться, сказать, что произошло недоразумение, ошибка, я продолжал, правда, с каким-то скользящим, знобким беспокойством, испытывать удовольствие от этой ласкающей признательности, заслуженно предназначенной другому человеку.
Меж тем Джума, чувствуя себя на седьмом небе от привалившего счастья, рассказывал:
— Ты, Вовка, можешь и не все помнить, знать: на исходе этой истории тебе лет пять-шесть набежало. А отец с матерью у тебя такие, что не очень-то будут распространяться о своих добрых делах. И причина не в скромности. Не только в скромности. Я думал об этом. Для них помочь постороннему столь же просто и естественно, как позаботиться о самих себе. Или для них вообще нет посторонних? Как, по-твоему?